Она бережно оторвала от своего лица лохматую голову. Держа за виски, посмотрела в глаза, взглядом прямым и ясным, каким недавно смотрела на нее Хаидэ, но до краев полным отчаяния.
— Поклянись мне! Поклянись, что доверишься, не станешь спрашивать лишнего. И — возьми меня сейчас.
— Ахи…
— Я — женщина прошу тебя — о великой милости мужчины. Если тебе не противно мое тело, возьми! Пусть это будет твоя клятва. Позволь мне отдать себя в твои руки.
Прерываясь, молящий голос утих. Пришли на его место высокие песни жаворонков, скрипы степных кузнечиков, шелест травы под теплым ветром.
Мужчина стоял на коленях, с нежностью оглядывая страдающее лицо любимой. Кивнул, бережно, как ребенка, укладывая на белые пушистые стебли.
— Я, певец и охотник Убог, беру тебя, Ахатта. И отдаю тебе свое сердце — навсегда. Теперь мы — одно.
Она откинула голову, плавно принимая тяжесть мужского тела, глядя поверх широкого плеча в небо, что становилось все выше, вздымаясь прозрачным куполом, и там, в звонкой голубизне, птицы парили так высоко, что казались горстью маковых семян, брошенных в небесное молоко.
Улыбнулась птицам яркими, бережно и сильно нацелованными губами.
Он пойман, простой, сильный и добрый — пойман ее силками. И станет служить — он поклялся.
Вечером, ведя в поводу Цаплю, Хаидэ возвращалась в стойбище с берега морской реки, рядом шел Техути, срывая и отбрасывая пушистые шарики цветущего чертополоха.
— И Убог с ней?
— Его тоже нет, утром был, а потом куда-то делся. Прикажи Хойте или Казыму, они разыщут след и найдут их.
— Нет. Может быть, сегодня у этих двоих получится что-то. Пусть побудут вместе, в большой степи. Пусть никто не ищет их.
— Ты права.
Золотой вечер ложился на травы мягко, как светлая кисея, тяжелел, наливаясь бронзой, и дневные звуки уходили под него, становясь приглушенными, будто боялись нарушить свой только пришедший сон. Только запахи не спали, плыли волнами, кутая с головой, догоняли, перемешиваясь, и к ним подходили еще и еще — те, что только очнулись и вышли из прошлой ночи, чтоб встретить другую ночь, стоящую на пороге.
Техути замедлил шаги, поглядывая на княгиню. И та улыбнулась, бросая поводья.
— Я не один хочу остаться в степи, любимая?
— Что тебе делать в степи одному, любимый?
Он рассмеялся, обнимая ее. Степь улыбалась, принимая два тела, и травы клонились, рассматривая брошенный наземь плащ и людей, сминающих грубые складки.
— Вот счастье, — шептал, и Хаидэ кивала, жмурясь и снова открывая глаза.
И снова это было так огромно, что ей хотелось ощупать себя руками, проверяя, есть ли границы, или все разлетелось и уже невозможно собрать, отделяя себя от коленчатых стеблей, резных листьев в белом пуху, зубчатых колосьев, перепархивания птенцов у самой земли, нырков бабочек вверх и вниз над мягкими остриями зеленых копий.
— Теперь я знаю, почему Убог сочиняет нескладные песенки. Если он живет так, как я сейчас, как мы сейчас, то он самый счастливый. И самый несчастный. Ведь каждый новый птенец — это его жизнь, каждая крошечная смерть травы — и его смерть тоже.
— Я понимаю, о чем ты.
— Нет. Нет ему несчастья, потому что и смерти эти — одно сплошное счастье.
И вытягиваясь, изгибаясь луком, дрожащим от напряжения, она закинула руки за голову и вдруг закричала, звонко, с переливами, как кричат весенние птицы, мучаясь страстью. Техути, хватая ее руки, тыкаясь лицом в горячую кожу и целуя все, что попадалось на пути его губ, расхохотался, наваливаясь и откидываясь, когда она завозилась, выскальзывая и борясь с ним.
Лежа рядом и глядя, как наливается зеленой дрожащей слезой сережка Миисы, Хаидэ проговорила:
— Пусть они сегодня так же. И не меньше. Пусть им — такое же счастье.
— Эй!
Сидящая у высокого зеркала девочка вздрогнула и обернулась, кладя на столешницу резной гребень.
— Не крути головой. Ты! Чеши волосы, как чесала.
Теренций покачнулся и, уцепившись за край дверного проема, выпрямился, глядя из-под насупленных бровей. Девочка закусила губу и снова взяла в руку гребень. Медленно с силой провела по длинным волосам, завитым в крупные кольца.
— Та-а-ак, — одобрил купец, наклоняя голову к плечу, — еще. Та-а-ак… Ты ходила в мойню нынче?
— Я не успела, господин. Сейчас…
— Сиди! Обой-дешь… ся. Оставь этот светильник, что у зеркала. Я скоро.
Тяжелые неверные шаги удалялись вниз по ступеням. Вот послышался низкий голос, запевший начало площадной песенки. И смолк на полуслове, сменяясь чертыханием.
— Гайя! Гай-яа! — закричал Теренций в перистиле, — бесовка, где мой сын?
Девочка бросила гребень на столик и, вскочив, подбежала к двери, неслышно ступая босыми ногами, спустилась до середины лестницы, и встала, прислушиваясь.
В перистиле топал и ворчал Теренций. Захлопали крылья, и скрипуче заорал павлин, убегая.
— Демон-ская курица! Чтоб тебя. Пошла вон! Где мой наследник, Гайя!
— Мы уже тут, мой господин. Осторожно. Смотри, он улыбается тебе.
— Мой маль-чик…
Хмельной голос размяк, хлюпая. Детский плач стих, и Мератос, стоя на лестнице, услышала довольное гульканье и умиленные причитания счастливого отца.
— Вот он! Мой царевич. Все, что нажил, все остается ему, моему маленькому Аполлону. Моему Аникетосу! Да будут дни его… Гайя, да не кудах-чи, не уроню. Я силен! Я — отец!
— Ты бы почаще заглядывал в детскую, мой господин, и пореже в кувшины.
— Молчи! Плетей да? Захотела ты. Одна старая карга уползла в степь, теперь вот ты — учишь…
— Давай. Мальчику пора спать.
— Бери. Да береги. Там стоят воины? — Теренций грозно икнул.
— Двое, мой господин. Никогда не спят.
— Еще! Пусть еще, вот — раз-два, двое, да. Чтоб четверо.
— Ты отправил шестерых с караваном. Если будут стоять четверо, кто сменит их?
— Мол-чи! То мой караван и купцы привезут мне золота! И мехов! Я же все, все для него, для моего маль-чи-ка.
Мератос подхватила тонкий подол и медленно пошла вверх по лестнице в спальню княгини. Пухлые губы кривились и глаза наливались злыми слезами. Старый медведь каплет слюнями на своего степного выродка, а ей приказывает пить зелье каждый день, чтоб не понесла от него. Сам берет у рабыни чашу и, покрикивая, следит, чтоб выпивала до капли. Смеется. Хитрый, хоть и пьянчуга. И что ей с того, что жирный боров задарил ее одеждами своей жены, если все, что имеет, оставит наследнику и тот у него будет один?
Она снова села к зеркалу и глядя себе в глаза, тщательно расчесала волосы. Поднялась, отстегивая булавки с плеч и не снимая зеленого хитона, улеглась на постель, укрытую парчовым покрывалом. Светильник тянул вверх рыжий хвостик пламени, бросая по углам колеблющиеся тени. И по ее лицу тоже пробегали тени, как длиннолапые пауки, меняя черты.
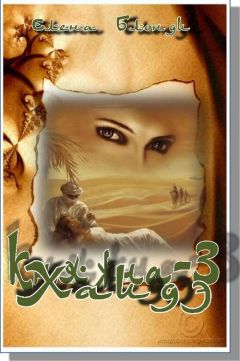
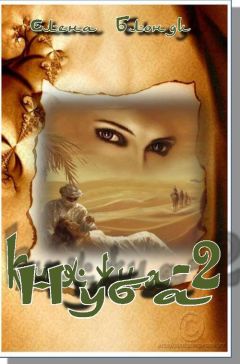

![Фабрис Колен - КОЛЕН Ф. По вашему желанию. Возмездие[]](https://cdn.my-library.info/books/75333/75333.jpg)

