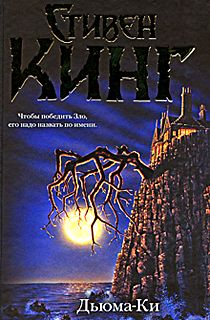— Уже еду. Держись, Уайрман. Оставайся на месте и держись.
У меня последние недели никаких проблем с глазами не возникало. Несчастный случай привёл к некоторой потере периферийного зрения, появилась тенденция поворачивать голову вправо, чтобы увидеть то, что прежде я отчётливо видел, глядя прямо перед собой. Но в остальном по этой части всё было хорошо. И, направляясь к невзрачному арендованному «шеви», я задавался вопросом, а что бы я испытал, если бы всё вокруг вновь начала застилать краснота… или если бы однажды утром я проснулся и обнаружил, что половина моего мира превратилась в чёрную дыру. Но тут возник новый вопрос. Как Уайрман вообще смог издать смешок? Пусть даже и такой странный.
Я уже взялся за дверную ручку «малибу», когда вспомнил его слова об Энн-Мэри Уистлер, которую он обычно просил побыть с Элизабет, если ему требовалось отлучиться на довольно продолжительный срок. Она была на вызове, то есть… Я поспешил в дом и позвонил Джеку на мобильник, моля Бога, чтобы он откликнулся и смог приехать. Он и откликнулся и смог. Команда хозяев записала очко на свой счёт.
В то утро я впервые выехал с острова за рулём автомобиля, и мне пришлось попотеть, когда я влился в плотный, бампер к бамперу, поток автомобилей, движущийся на север по Тамайа-ми-Трайл. Направлялись мы в Мемориальную больницу Сарасоты по рекомендации врача Элизабет, которому я позвонил, невзирая на слабые протесты Уайрмана. И теперь Уайрман продолжал спрашивать, как моё самочувствие, уверен ли я, что смогу доехать до нужного места, не следовало ли мне остаться с Элизабет, а с ним отправить Джека.
— Всё у меня хорошо.
— Ты выглядишь испуганным до смерти. Это я как раз вижу. — Его правый глаз сместился в мою сторону. Левый попытался последовать за ним, но безуспешно. Налитый кровью, частично закатившийся под верхнее веко, он сочился слезами. — Не впадёшь в прострацию, мучачо?
— Нет. А кроме того, ты слышал Элизабет. Если бы ты не поехал сам, она бы взяла швабру и выгнала тебя за дверь.
Он не хотел, чтобы мисс Элизабет узнала, что ему нехорошо, но она пришла на кухню на своих ходунках и подслушала конец нашего разговора. Опять же у неё отчасти проявлялись те же телепатические способности, что и у Уайрмана. Мы вроде бы это не признавали, но что было, то было.
— Если они захотят положить тебя… — начал я.
— Конечно, они захотят, у них это просто рефлекс, но такому не бывать. Если они смогут что-то поправить, тогда другое дело. Я еду только потому, что Хэдлок, возможно, скажет мне, что это не постоянная темнота, а временное отключение радара. — Он кисло улыбнулся.
— Уайрман, да что с тобой произошло?
— Всему своё время, мучачо. Какие ты нынче пишешь картины?
— Сейчас это не важно.
— Дорогой мой, похоже, я не единственный, кто устал от вопросов. Тебе известно, что в зимние месяцы из сорока человек, постоянно пользующихся Тамайами-Трайл, один попадает в автомобильную аварию? Это правда. А на днях в выпуске новостей сказали, что шансы столкновения Земли и астероида размером с «Астродоум»[96] в Хьюстоне выше, чем шанс…
Я потянулся к радиоприёмнику.
— Почему бы нам не послушать музыку?
— Хорошая идея, — кивнул он. — Только не грёбаное кантри.
Поначалу я не понял. Потом вспомнил моих бывших соседей. Нашёл самую громкую, самую тупую рок-станцию, которая именовала себя «Кость». Группа «Nazareth» с воплями исполняла «Hair of the Dog».
— Ага, блевотный рок-н-ролл, — прокомментировал Уайрман. — Вот ты и проявил себя, mi hijo.[97]
День выдался долгим. Если уж ты решил бросить своё тело на конвейерную ленту современной медицины (особенно в городе, где очень уж много пожилых людей, зачастую приехавших с севера и выздоравливающих после болезни) — готовься к долгому дню. Мы пробыли в больнице до шести вечера. Они действительно хотели оставить Уайрмана. Он отказался.
Большую часть этого дня я провёл в чистилищных комнатах ожидания, где журналы старые, обивка стульев вытертая, а из угла вещает телевизор. Я сидел, слушая тревожные разговоры вперемешку с телевизионным квохтаньем, время от времени уходил в одно из помещений, где разрешалось пользоваться сотовыми телефонами, и с мобильника Уайрмана звонил Джеку. Как она? Отлично. Они играли в парчизи.[98] Потом она занималась Фарфоровым городом. В третий раз они ели сандвичи и смотрели Опру. На четвёртый она спала.
— Скажите ему, что она сама ходила в туалет, — добавил Джек. — Пока.
Я сказал. Уайрмана это порадовало. А конвейерная лента медленно, но ползла.
Три комнаты ожидания, одна рядом с приёмным отделением, где Уайрман отказался даже притронуться к планшету с зажимом, которым крепился статистический бланк, возможно, потому, что не мог прочитать ни слова (я заполнил всё необходимые графы), вторая — рядом с отделением неврологии, где я познакомился с Джином Хэдлоком, врачом Элизабет, и Гербертом Принсайпом — по словам доктора Хэдлока, лучшим неврологом Сарасоты. Принсайп не стал этого отрицать и не сказал «чушь». Последняя комната ожидания находилась на втором этаже, где располагалось Очень Сложное оборудование. Здесь Уайрмана повели не к магниторезонансному томографу, моему хорошему знакомцу, а в рентгеновский кабинет в дальнем конце коридора. Я предположил, что в наш просвещённый век кабинет этот покрыт пылью и затянут паутиной. Уайрман оставил мне медальон с Девой Марией, и я сидел в комнате ожидания, гадая, почему лучший невролог Сарасоты прибег к столь древнему методу обследования. Просветить меня никто не удосужился.
Телевизоры во всех трёх комнатах ожидания были настроены на «Шестой канал», так что мне снова и снова показывали одну и ту же «Картину»: рука Кэнди Брауна крепко держит запястье Тины Гарибальди, она смотрит на него, и взгляд Тины наводит ужас на любого, кто воспитывался в более или менее приличном доме, потому что каждому понятно, о чём говорит этот взгляд. Все объясняют детям, что нужно быть осторожными, очень осторожными, что незнакомец может означать опасность, и, возможно, дети с этим соглашаются, но дети из хороших семей воспитаны в уверенности, что безопасность положена им по праву рождения. Её глаза говорили: «Конечно, мистер, скажите, что я должна сделать». Глаза говорили: «Вы — взрослый, я — ребёнок, вот и скажите мне, чего вы хотите». Глаза говорили: «Меня воспитывали в уважении к старшим». И что самое ужасное, разящее наповал, глаза говорили: «Мне никогда не причиняли боли».