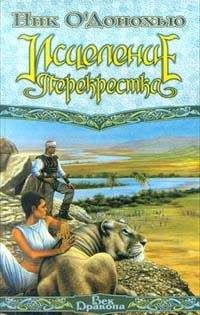– Ja, – кивнул немец.
– Не хнычь, Валюха, мы еще увидимся, это я точно знаю, – сказал Серж.
– Я все равно с тобой! – рванулась Валюха.
– Да господи боже мой! Курт! Держи ты ее!
Немец послушно перехватил маленькую фигурку поперек.
– Пусти! – шипела Валюха, пытаясь кусаться. – Пусти, фашист проклятый!
– Nicht faschist, – терпеливо уговаривал Курт.
Перевалившись через край воронки, Серж пополз по следу старшины, стараясь попадать локтями в те же углубления в грязном снегу.
Один ящик остался цел, содержимое другого было разбросано взрывом вокруг. Тут же лежали и гранаты. Серж набил ими свой вещмешок и противогазную сумку, потом снял каску и принялся собирать в нее рассыпанные патроны, стараясь не глядеть в сторону дымящегося тряпья. Патроны были все в снегу, а порой рука натыкалась на мягкое и липкое. Серж сдерживал спазмы и продолжал набивать каску и карманы.
Протяжное завывание первой мины он услышал, привалившись к паровозу. Неподалеку вырос черный сноп разрыва, и по холодному металлу чиркнули осколки. Серж перехватил поудобней каску и патронный ящик и бросился бежать.
Вторая мина упала позади, подтолкнув его в спину взрывной волной. Серж приостановился у воронки, но понял, что если спрыгнет в нее, то сил вытащить боеприпасы у него уже не хватит. Поэтому он только подкинул повыше вещмешок, чтобы лямки не так врезались в плечи, и побежал дальше. Впрочем, бегом это было назвать сложно – тяжесть подгибала колени, пот заливал глаза, приклад винтовки нещадно колотил по ногам. Двигаться было тяжело, как в толще воды.
Мины продолжали падать по сторонам, но до конторы оставалось недалеко. Уже были слышны крики из окон: «Эй, парень! Эй! С ума сошел, что ли? Эй!»
Серж сжал зубы и пошел из последних сил – бежать он уже не мог. Сердце рвалось из горла, вещмешок пригибал к земле, ремень винтовки резал шею. Каска, казалось, весила не меньше полутонны. «Эй, парень!» – продолжали ему кричать. Он никак не мог понять, что они хотят, пока не услышал какой-то особый, с шорохом, треском и присвистом, вой.
Мина ахнула прямо под ним, и Серж полетел в пустоту, судорожно вцепившись в набитую патронами каску.
Сержа крутило и выворачивало наизнанку, переворачивало вверх ногами и все никак не убивало.
«Жив, жив, жив, – билась в голове единственная мысль, – неужели жив?»
Пустота втягивала его в себя, как черная дыра, и единственным, что как-то связывало его с реальностью, была зажатая в руках каска. Он стремительно летел навстречу ослепительному свету, или свет летел навстречу ему – было совершенно не понять. И вдруг – свет и звук нахлынули разом, оглушили, и ослепили, и швырнули на дощатый крашеный пол диорамы. Тяжесть, наконец, вырвалась из рук и рассыпалась по полу грудой белых невесомых хлопьев.
– Ну ты, парень, совсем без головы, – воскликнул старший монтажник, – разве ж так можно – в ненастроенный аппарат?
– Да он замерз, как цуцик, – заметил второй.
Сержа колотила крупная дрожь, и не только от холода. Голод превратился в почти звериное чувство.
– Тащи плед и термос, – приказал старший, и второй умчался в сторону киноаппаратной.
Плюща сапогами рассыпанный попкорн, монтажник усадил Сержа обратно в кресло.
– К-как вы меня оттуда вытащили? – спросил Серж, недоуменно ощупывая непросохшие джинсы.
– Откуда? – не понял монтажник.
– Н-ну… оттуда… Из сорок второго…
Спаситель похлопал его по плечу:
– Эх ты, паря! Начитался фантастики. Это ж тебе не машина времени. Это гипнорама. Понимаешь? Гипноз. Модулированное излучение на альфа-частоте, усиливает воображение и восприятие, и больше ничего.
Второй монтажник, вернувшись, набросил на Сержа колючий потертый плед и плеснул из термоса в чашку горячий кофе.
– Н-ничего?.. Ничего н-не было?.. – переспросил Серж, стуча зубами о пластмассовый край чашки.
– Ну… – монтажник помоложе неопределенно развел руками, – как «не было»… Ведь было же когда-то…
– А бабка? Моя бабка? Я ее видел. Только маленькую совсем…
– Э-э, брат. Нечего бездумно в неотрегулированный аттракцион лезть. При такой силе излучения не то что бабку – Рюрика увидеть можно. Генетическая память пробуждаться начинает.
– Генетическая?
– Именно, паря. Кровь – она все помнит.
Техник рассказывал еще что-то, постепенно расходясь и размахивая руками, но Серж уже не слышал его. Зажав горячую чашку в ладонях, он отрешенно смотрел и смотрел на освещенную надпись у края диорамы «Никто не забыт, ничто не забыто» – словно только сейчас постиг ее истинный смысл.
Снег утих, и на улице царило вполне обычное вечернее оживление. Машины резали сумрак желтыми фарами, на перекрестках перемигивались светофоры. Народ нырял в магазины и выплывал обратно с обновами или набитыми продуктовыми пакетами. Мамаши влекли коляски по слякотному тротуару, младенцы в них бессмысленно глазели на чернеющее небо и уличные фонари. Жизнь, стремительная и яркая, проносилась мимо, с гудками, смехом и трамвайным звоном. Сержа задевали кто сумкой, кто плечом, но он почти никак на это не реагировал. Из оцепенения его вывел только телефонный звонок.
– Ты где? – осведомились на другом конце. – Тусняк в разгаре, а тебя никто выцепить не может. Че, трубу опять разрядил?
– Ты не знаешь, где тянучки купить? – негромко спросил Серж. – Такие конфеты, длинные, в бумажке?
На том конце гоготнули:
– Ты че, обкурился, что ль? Во дает! Але! Слышь…
Серж нажал кнопку отбоя и закрыл глаза. Город гудел, гремел, дышал. Город жил. Как огромный организм – ломанный, калеченный, но выживший. Серж слышал, как бился его неровный пульс, и чувствовал себя в нем. И если этот город в его крови, и если есть в нем где-то эти треклятые тянучки – он их отыщет. В лепешку расшибется, но отыщет.
Олег Кожин
Война без сохранения
В этот раз он поймал пулю всего метрах в пятнадцати от вражеских укреплений. Мир резко дернулся, посерел, и громогласное, подчас перекрывающее разрывы снарядов «урррра!» атакующих сменилось гулкими ударами пульсирующей в ушах крови. Его не отбросило назад, не повалило на землю – он просто споткнулся и упал на колени. Попытался встать и не смог. Гладкая, как будто бы отполированная, «трехлинейка» выпала из ослабевших пальцев и упала на чудом уцелевший в этой адовой мясорубке участок зеленой травы, на которую медленно стекала неправдоподобно яркая кровь.
Кстати, о крови… Павел наклонил голову, стараясь получше рассмотреть ранение. В последнее время он взял за правило запоминать. Каждую рану и контузию, каждое, даже самое небольшое, повреждение тела. И каждую смерть, конечно же. Да, жизнь покидала его, и он знал об этом, но сейчас это почти не пугало. Страшно было в первый раз. И во второй – тоже. А когда ты умираешь несколько раз в день – застреленный, взорванный, пронзенный осколком или штык-ножом, раздавленный гусеницами, сожженный заживо, задохнувшийся в дыму, – это перестает пугать. Смерть становится привычкой.