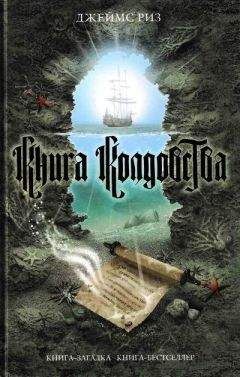И правда, с первого взгляда Кэл показался мне… как бы это сказать… ну, миловидным. В нем было что-то необычайно привлекательное, даже светлое. Не думаю, что это было следствием его силы, нет. Я бы назвала его лучезарным существом, в котором незримо соединились море и солнце. Его волосы были белокурыми, причем исключительно волей Создателя, давным-давно отказавшегося — в редком для него порыве экономии — от сотворения людей из чистого золота. Но улыбка его была дороже золота, его изящные губы казались совершенной драгоценностью, а между ним блестели перламутровые зубы, причем на одном из передних резцов краешек откололся самым очаровательным образом. Да, когда он улыбался — не так уж часто, — его улыбка затмевала все. Она была итогом, а остальные детали казались уже не важными. Лицо словно оставалось в ее тени — и кривоватый нос, и покрытые пушком щеки, и выступающие скулы, и светящиеся глаза, своим цветом готовые посрамить море, якобы растворившее в себе все оттенки синевы. Облик Кэла довершала копна выгоревших на солнце кудрей, которые он подстригал, только если они падали ему на глаза и мешали смотреть.
Юноша был создан по Боттичеллиевым канонам. Вот перед кем я сидела и дивилась тому, что вижу… но постойте. Слово «дивилась» означает, что мои мысли оставались ясными, хотя на самом деле все вышло наоборот. Я была попросту ошеломлена. Если бы я сохранила способность удивляться, на ум мне пришел бы вопрос: желаю я этого мальчика или сама хочу быть им?
Я и раньше задавала себе подобные вопросы, ибо именно с такой позиции смотрела на людскую красоту каждый раз, когда встречала ее в человеческом обличье. Надо разобраться. Такие мысли часто посещают простодушных людей, имеющих не слишком высокое мнение о своей внешности. В детстве я считала себя дурнушкой и не понимала, чем я отличаюсь от других людей. Разумеется, я чувствовала, что не похожа на них, однако считала это уродством и тяжкой долей. Таким стало мое суждение о самой себе, и ни одна из монахинь или учениц не могла меня разубедить. Мучительное одиночество моего отрочества только усилило это ощущение — я вечно искала уединения и неизменно ожидала насмешек. Позднее, когда мои представления о красоте расширились, я поняла, что… Ну, пусть даже я не красавица, достойная кисти Боттичелли, все же я… Enfin,[8] я была высокой, причем не только для девушки, но и для юноши; у меня были длинные изящные руки и ноги, а также миловидное лицо с белоснежною кожей, которое иные, правда, могли бы счесть заурядным. Светловолосая и белокожая, я легко и быстро краснела. Мои руки мне не нравились, ибо я полагала их чересчур сильными, да и пальцы казались длинноватыми. Мои голубые глаза имели зеленоватый оттенок — хотя позднее почти вся радужная оболочка оказалась вытеснена зрачками неправильной формы, так называемым «жабьим глазом». Не слишком привлекательное зрелище, но такой уж я стала.
Что я хочу сказать: я уже не считала себя уродливой, но мне еще не доводилось встречать таких красавцев, как этот юноша, мой почти ровесник. И вот я сидела с веревкой в руке, палимая солнцем и ослепленная его красотой, потерявшая дар речи, а мое занятие внезапно показалось мне очень серьезным.
— Зачем? — снова спросил он, кивнув головой на развязанные мной узлы.
Я не могла ответить правду, потому что прекрасно знала: ни один мужчина не расскажет о том, как пытался прикрыть свой стыд бессмысленным делом. Но я не могла вечно смотреть на юнгу влюбленным взором. Итак, молчание, взгляды украдкой… Наконец юноша присел рядом (когда он стоял, то возвышался надо мною дюймов на шесть; значит, он был выше меня ростом) и произнес, протянув мне правую руку:
— Меня зовут Кэл. Или Каликсто.
— Генри, — представилась я и подумала, что эта ложь прозвучала правдиво.
По сути, это могло считаться правдою, ибо я не называла себя моим настоящим именем — Геркулина — очень, очень давно.
— Генри, — повторила я, изо всех сил стараясь изгнать французский акцент из своей речи (иногда он все-таки пробивался, до самого моего смертного часа), чтобы сказать именно Генри, а не Анри, как порой случалось.
Временами я жалела, что в свое время не отнеслась к выбору имени-псевдонима серьезно и не выбрала его более тщательно. Нынешнее имя казалось мне слишком безвкусным, но если менять его на другое, это внесет еще больше путаницы в мою жизнь. Я начала привыкать к имени Генри, а потому, не раздумывая, откликалась на него. Так что мне суждено было зваться Генри, хотя в душе я всегда оставалась Геркулиной.
Геркулина… Qui était-elle?[9]
Некое существо, родившееся двуполым в Бретани в 1806 году или около того. В отличие от моей смерти, выпавшей на 11 октября 1846 года, день моего рождения точно не известен — так бывает с сиротами. Да, я росла сиротой. Мне было лет шесть, когда моя жизнь дала трещину и приобрела сходство с судьбами героинь романов, которыми я зачитывалась на заре юности. Моя мать, умирая, послала меня в монастырь урсулинок. Она дала мне только записку, вложенную в карман моего воскресного платья, но если там и говорилось о том, когда именно я появилась на свет, монахини так ничего мне об этом и не сказали. Обучалась я в монастырской школе, где хозяйничали сущие… Ну вот, мое перо чуть само не написало слово «волки». Некогда я где-то уже прочла нечто подобное: «Ее воспитала волчья стая». То же самое можно сказать и обо мне, потому что некоторые из сестер-урсулинок походили на волчиц и душой, и телом. Волчья порода явственно проступала в них. Mais hélas,[10] меня вырастили не волки, а монахини — на их попечение меня отдала умирающая мать, когда настал ее День крови. Была ли она практикующей ведьмой? Знала ли о своей природе, ведала ли, что ее кровь — страшная, алая — уже на подходе? Не могу вам сказать. Когда-то я хорошо помнила маму, но теперь не могу воскресить в памяти ее облик. Хотя, конечно, могла бы. Я погрузила бы себя в сон, и предо мной предстали бы картины прошлого. Там я вновь увидела бы ее — может, мне даже удалось бы узнать, как выглядел мой отец, которого я не знала вовсе. Однако я никогда не прибегала к этому способу из-за не оставлявшего меня страха перед ворожбой. Вызывание чародейского сна — не слишком приятное действо, и обычная сентиментальность не стоила того, чтобы прибегать к такому рискованному средству.
Монастырская школа, руководимая некою урсулинкой (имени ее я предпочитаю здесь не называть), примыкала к утесу — хотя, скорее всего, он представляется мне таковым лишь в моих детских воспоминаниях. Если вспомнить получше, то была просто дюна, за рыхлым зыбким склоном которой песок и камни осыпались прямо в прилегающую бухту, далее переходящую в море. Там, у далеких северных берегов Франции, приливы достигают необычайной высоты; они казались мне солеными языками, через определенные промежутки времени вылизывавшими низменный пляж, над которым в тягучем ритме, задаваемом тиканьем церковных часов, текла наша жизнь.