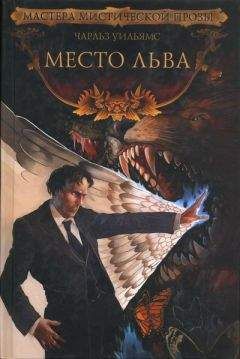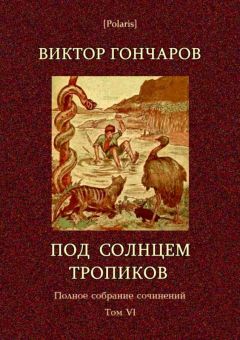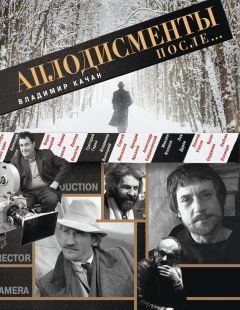— Вы можете предположить, что вызвало такой упадок? — задал вопрос следователь. — Врач заявляет, что его состояние здоровья не внушало никаких опасений.
— Да, на здоровье он не жаловался, — ответил Консидайн, — но оно оказалось ни к чему. Исчезла цель его жизни. Он создал себе образ, а образ исчез. При жизни его жена была центром этого образа, драгоценности, которыми он ее украшал, дополняли его. Она умерла, детей не было и не было сил искать какую-нибудь другую женщину, которую он смог бы украшать подобным образом. Он сосредоточил вокруг этого обожаемого создания всю свою силу и благосостояние, она была его зримой мощью, его признанным имуществом. Сами по себе драгоценности, как бы ни были они великолепны, значили немного. Я также думаю, что после смерти жены к нему вернулся какой-то детский страх: он боялся, что судьба разрушит все, что он создавал на протяжении жизни.
— Вы пытались его подбодрить? — спросил следователь.
Консидайн на мгновение запнулся.
— Я пытался, — медленно сказал он, — убедить его жить за счет своей собственной силы, а не за счет того, что в лучшем случае может быть лишь ее свойствами. Я пытался убедить его подняться из глубины своей утраты, не увядать от боли, не дать опустошенности захватить все жизненное пространство. Но мне не удалось.
— Да, понимаю, — невнятно сказал следователь. — Вы предлагали ему выйти за установленные внутри себя рамки?
Консидайн опять помедлил, на этот раз дольше.
— Я думал, что ему нужно было заново найти себя, — наконец сказал он, — заново оценить свои возможности. Но, к сожалению, я не смог добиться от него этого.
— Конечно, конечно, — покивал следователь. — Я уверен, суд разделяет ваши сожаления, мистер Консидайн. У меня нет никаких сомнений, что вы сделали все, что могли, но если человек не хочет или не может сам встряхнуться, простой разговор ему не поможет. Спасибо, мистер Консидайн.
— Боже правый! — тихо сказал сэр Бернард Роджеру. — Простой разговор! Ничего себе «простой»…
Затем огласили предсмертное письмо. В нем просто сообщалось, что Саймон Розенберг берет на себя всю ответственность за самоубийство, к которому его привело полное осознание совершенной бесполезности человеческого существования.
— Мы могли бы, — предположил следователь, — отметить эту фразу, как свидетельство помрачения рассудка. — Он поворошил бумаги на столе. — К этому краткому письму приложен еще один документ, являющийся последней волей и завещанием покойного. Я предоставил возможность заранее ознакомиться с ним господам Паттону и Фотерингею, поверенным покойного, чтобы они могли составить мнение о состоянии ума завещателя. Теперь я оглашу завещание.
Начиналось оно вполне нормально, за преамбулой следовало перечисление незначительных сумм слугам, клеркам и знакомым, а затем в одном величественном условии «все остальное имущество, движимое и недвижимое, акции, драгоценности, дома, земли и все прочее от самой маленькой солонки в дальнем охотничьем домике до самого толстого тома в лондонской библиотеке — двум троюродным братьям, Иезекиилю и Неемии Розенбергам, определяемым со всей необходимой точностью как внуки Якоба Розенберга, младшего брата деда покойного.
И я делаю это, — гласил далее документ, — потому, что они следуют путем отцов наших и чтут закон Господа Бога Израиля. И хотя я не знаю, есть ли такой Бог, которому надо молиться, или такой путь, которому надо следовать, я знаю все же, что все остальное — это отчаяние. Если мое состояние пригодится их Богу, пусть возьмут его, а если нет, пусть делают с ним, что пожелают, и пусть оно сгинет». Душеприказчиками были названы Найджел Консидайн и главный раввин, в надежде, что, хоть с ними и не посоветовались, они не откажутся.
В зале суда настала продолжительная тишина. Роджер Ингрэм думал о нескольких стихах из Второзакония, вспоминал Мильтона и стихотворение Мэнгана.[6] Сэр Бернард думал о том, что хотел бы познакомиться с Неемией и Иезекиилем Розенбергами. Филипп думал о том, как странно составлено завещание. Следователь продолжал объяснять присяжным разницу между самоубийством в твердом и нетвердом уме, определенно склоняясь ко второму, упирая на слово «отчаяние». «Если употребить слово, выбранное покойным, — рассуждал следователь, — смысл которого доведен до такого ненормального состояния, как показывают письмо и завещание, это в немалой степени может служить доказательством помрачения ума мистера Розенберга». Присяжные после чисто формального обсуждения согласились, о чем их председатель и объявил довольно неуверенным голосом. Присутствующие встали и потянулись к выходу.
На крыльце сэр Бернард и Роджер задержались ненадолго и были вознаграждены зрелищем выходящего Консидайна. Он внимал круглолицему человеку, то ли мистеру Паттону, то ли мистеру Фотерингею, но заметив Роджера, оставил своего спутника и подошел к ним.
— Ну-с, мистер Ингрэм, — сказал он, пожимая руки, — не ожидал увидеть вас здесь.
— Да вот, — снова замялся Роджер, — я сопровождал… — он завершил объяснение, представив своих спутников.
— Ну, разумеется, кто же не слышал имя сэра Бернарда, — сказал Консидайн. — Это же вы объяснили нам все о желудке?
— Думаете, это так важно? — ответил сэр Бернард.
Консидайн пожал плечами.
— Пока человеку без желудка не обойтись, — серьезно сказал он, — однако будем надеяться, что это ненадолго. В общем-то, очень ненадежная штука, как вы полагаете?
— Чем же прикажете довольствоваться, — возразил сэр Бернард, — за неимением лучшего?
— Но разве у нас нет лучшего? — спросил Консидайн. — Мы же не такие бедолаги, как Розенберг, который не сумел жить воображением. И вот, несмотря на свой ум и желудок, умер не насытившись.
— Обычно человек считает, что пока ему не прожить что без ума, что без желудка, — продолжал странную полемику сэр Бернард.
— «Обычно! Пока!» — воскликнул Консидайн. — Надо смотреть дальше и шире! Когда люди любят, когда они в пылу созидания, когда они горят верой, какой им тогда прок что от ума, что от желудка?
— Это ненормальные состояния, — не согласился сэр Бернард. — В них попадают, но из них возвращаются.
— Тем более жаль, — внезапно сказал Роджер. — Вы знаете, это правда. В состоянии подлинного восторга кажется, что пища не нужна.
— Именно, — улыбнулся ему Консидайн. — Поэты вас чему-то да научили, мистер Ингрэм.
— Но человек действительно возвращается, — как-то жалобно возразил Роджер, — и «тогда ему нужны и пища, и рассудок», — добавил он.