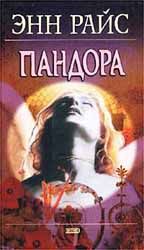В самый опасный час, когда она грозилась уничтожить нас, если мы не пойдем ее путем – а к тому времени она уже уничтожила многих, – именно Мариус со своей логикой, оптимизмом и философским складом ума заговорил с ней, стараясь успокоить ее и отвлечь, задержать претворение в жизнь ее сокрушительных намерений, пока не явится ее древний враг, готовый исполнить древнее проклятие и нанести смертельный удар.
Дэвид, что же ты со мной сделал, побудив излить эту повесть на бумагу?
Ты заставил меня устыдиться потраченных впустую лет. Ты заставил меня признать, что никакого мрака не хватило, чтобы истребить во мне понимание любви – любви тех смертных, благодаря кому я появилась на свет, любви к каменным богиням, любви к Мариусу.
Прежде всего, я не могу отрицать возрождение любви к Мариусу.
И вокруг меня в этом мире я тоже вижу проявления любви – в образе Святой Девы Марии и младенца Иисуса, в образе распятого Христа, в воспоминании о базальтовой статуе Изиды. Я вижу любовь. Я вижу ее в человеческой борьбе. Я вижу ее безусловное проникновение во все достижения человечества – в поэзии, в живописи, в музыке, в любви друг к другу и отказе считать страдания своим неизбежным уделом.
Однако прежде всего я вижу ее в самом устройстве мира, который затмевает любое искусство и не мог бы просто по случайности накопить такую красоту.
Любовь… Но откуда проистекает эта любовь? Почему ее источник окутан такой тайной, источник любви, создавшей дождь и деревья, разбросавшей над нами звезды? Раньше утверждалось, что это сделали боги.
Итак, Лестат, наш принц-паршивец, разбудил царицу; а мы пережили ее уничтожение. Итак, Лестат, наш принц-паршивец, побывал и на Небесах, и в аду, откуда принес недоверие, ужас и Покрывало Вероники! Вероника… Имя, придуманное христианами, означающее vera ikon – подлинная икона. Его забросили в Палестину как раз в те времена, когда жила я, и там он увидел нечто, что потрясло те самые человеческие способности, к которым мы так бережно относимся: веру, разум.
Я должна пойти к Лестату и заглянуть ему в глаза. Я должна увидеть то, что увидел он!
Пусть молодые поют песни смерти. Они глупы.
Самое прекрасное, что существует под луной и солнцем, – это душа человека. Я восхищаюсь маленькими чудесами добра, которыми обмениваются люди, я восхищаюсь ростом сознания, упорством разума перед лицом суеверий и отчаяния. Я восхищаюсь человеческой выносливостью.
У меня осталась для тебя еще одна история. Не знаю, почему мне хочется записать ее в этот блокнот. Хочется. Наверное, потому, что я чувствую: ты, вампир, способный видеть духов, поймешь ее и, возможно, поймешь, почему она меня совсем не тронула.
Как-то раз, в шестом веке – то есть через пятьсот лет после Рождества Христова и через триста лет после того, как я ушла от Мариуса, – я скиталась по варварской Италии. Полуостров давно уже разорили остготы.
Потом на них накинулись другие племена – грабили, жгли, растаскивали камни из старых храмов.
Я ходила там, как по раскаленным углям.
Но Рим все-таки боролся, сохраняя некую концепцию самого себя и свои принципы, пытаясь перемешать язычество с христианством и добиться отсрочки варварских набегов.
В Риме сохранился сенат. Выжил – единственный из всех прежних институтов власти.
И недавно как раз приговорили к смерти одного ученого, Боэция, происходившего из той же породы, что и я, очень образованного человека, изучавшего древние века и святых, но он успел оставить нам великую книгу. Сегодня она есть во всех библиотеках. И называется, конечно, «Утешение философское».
Я не могла не увидеть своими глазами разрушенный форум, обгорелые, голые римские холмы, свиней и овец, бродящих по тем местам, где когда-то обращался к толпе Цицерон. Мне необходимо было взглянуть на отверженных бедняков, утративших всякую надежду и влачивших безрадостное существование на берегах Тибра.
Увидеть павший классический мир… Увидеть христианские церкви и святыни…
Увидеть одного конкретного ученого. Как и Боэций, он вел свое происхождение от старого римского рода, как Боэций, он читал классиков и святых. Этот человек рассылал письма по всему миру, даже в далекую Англию, ученому Беде.
Невзирая на разруху и войну, он построил монастырь – истинное воплощение творческих сил и оптимизма.
Речь идет, разумеется, об ученом Кассиодоре, а его монастырь располагался на самом кончике итальянского «сапога», в райской земле – зеленой Калабрии.
Я, как и планировала, попала туда ранним вечером, когда монастырь больше всего походил на великолепный, потрясающий освещенный город в миниатюре.
В скриптории усердно переписывали книги монахи.
А в келье с распахнутой навстречу ночи дверью сидел, склонившись над рукописью, сам Кассиодор, которому уже минуло девяносто лет.
Несмотря на политику варваров, погубившую его друга Боэция, Кассиодор выжил, служил арийцу остготу императору Теодориху и, как только позволил возраст, покинул государственную службу, чтобы построить монастырь своей мечты и писать письма монахам всего мира, делясь с ними своими знаниями о древних в стремлении сохранить мудрость греков и римлян.
Правы ли были те, кто называл его последним представителем древнего мира? Последним, кто умел читать и по-гречески, и по-латыни? Последним, кто дорожил и Аристотелем, и догматами Папы Римского? И Платоном, и святым Павлом?
Тогда я не знала, что о нем будут так хорошо помнить. И не знала, что его так скоро забудут!
Виварий, расположенный на горном склоне, оказался архитектурным триумфом. Там были и искрящиеся пруды для разведения и ловли рыбы – именно благодаря им он и получил свое название. Была и христианская церковь с неизменным крестом, общие спальни, комнаты для усталых гостей-путешественников. В библиотеке хранились не только богатые собрания классиков моего времени, но и Евангелия, ныне утерянные. Монастырь отнюдь не испытывал недостатка в любых необходимых для приготовления пищи злаках, в усыпанных плодами деревьях, в пшеничных полях.
Всем этим ведали монахи, день и ночь посвящавшие себя переписыванию книг в длинном скриптории.
Там, на ласковом подлунном побережье, были и пчелиные ульи, сотни ульев, из которых монахи добывали мед, идущий в пищу, воск для изготовления священных свечей и желе для притираний. Холм, отданный под ульи, по размерам не уступал фруктовому саду или полям Вивария.
Я подсматривала за Кассиодором. Я бродила среди ульев, как всегда восхищаясь необъяснимой пчелиной организацией, тайнами пчел и их танцев, их охотой за пыльцой, их размножением, – все это было знакомо мне задолго до того, как получило свое объяснение в мире людей.