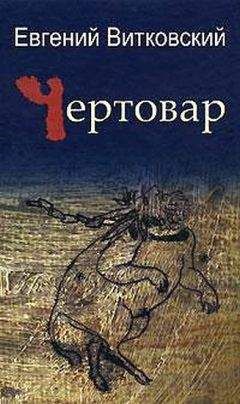В непонятное Веденей вляпался на окраине крошечного городка Нечаево-Кирилловска, в непосредственной близости от Богозаводска. За малые деньги пустила его к себе переночевать молодая вдова, малорослая, но крепкая женщина. Уложив спать обеих дочек, она погасила свет в избе, заложила ставни на костыли, умылась в сенях и через миг в чем мать родила нырнула под одеяло к Веденею. Вдова была женщина опытная, понимала, что человек с дороги и устал, даже предложила шепотом что-то насчет того, что, мол, поспи часок, все потом и вообще все путем. Гипофет хотел принять это предложение, но человек он был живой и достаточно еще молодой, хозяйка своего добилась очень быстро — и не раз. Умотала она киммерийца на совесть, особенно ее пленяли лапищи киммерийца и то, что вся она, вдова, в любой из них умещается.
Проснулся умотанный ночными кувырканиями гипофет, как можно это было предвидеть, уже в кандалах, в плену у «Колобкового упования», верной почитательницей какового ловкая вдова была уж который год. Борис Черепегин, некогда Тюриков, счел, что своего офени не бросят, что явятся его спасать — а тут-то он их и подловит.
В чем, кстати, был совершенно прав, ибо младший брат явился сюда именно за старшим — за Веденеем. Ошибался Борис лишь в оценке сил противника. О том, что без этого пленника Тюриков никаких нежеланных гостей мог бы не ждать еще десятилетия, он так и не узнал. Но родной город Бориса, Архангельск, был заложен царем Иваном Четвертым, с которого нынешний император как бы сорвал погоны — лишил почетного воинского звания «Грозный». Ибо довел тот страну до опричнины, до разрухи, до седьмой жены и до Бориса Годунова, чтобы не сказать хуже. Однако ни царю Ивану, ни экс-офене Борису не было свойственно думать о далеких последствиях принятых решений. Поэтому последствия обычно превращались в недальние и неприятные.
Так что среди полностью одуревшей толпы, которую мощными аккордами сицилийской музыки продолжал взбадривать из переулка стоявший на грузовичке кабинетный рояль, холодных голов имелось ровным счетом две, одна принадлежала Варфоломею, другая — бобру Дунстану из клана рифейских Мак-Грегоров. Среди бобров умение говорить человеческими словами не встречается, они общаются посредством свиста или языка жестов, а пишут зубами, используя как кириллицу, так и несколько собственных алфавитов, притом созданных на основе древнекиммерийского слогового письма. Однако Дунстан провел полжизни в таких небобриных, таких неожиданных обстоятельствах, что в нужный момент мог кое-что крутое и сказать. Так человек иной раз может правильно залаять, уместно мяукнуть, пронзительно красиво замычать. Но на долгую речь его, конечно, не хватит.
Дунька прибился под ногами буйствующих, обогнал Варфоломея и встал на задние лапы перед Черепегиным-старшим, он же Подкавель, коему, похоже, теперь доставалась роль козла отпущения.
— А ну вынь зубы, гад! — истошно тонким голосом заорал бобер. Ему и впрямь было жаль собственной резьбы по рогу нарвала, а тут предстояло наскоро измыслить для себя еще и доказательство того, что есть у него в жизни и ремесло. Черепегин покорно вынул изо рта обе челюсти — и это его спасло. Легким движением руки Варфоломей отбросил старика в дальний угол, где он уже не интересовал никого, а битый жизнью Дунстан убежал вместе с челюстями в противоположный, ибо торопился спрятать обе. Варфоломей поворотил перекладину молясины, стукнул лбами оцепеневших младших и движением приказал — мол, бегите по кругу.
И братья побежали. Толпа ревела и качалась, кто-то терял сознание, а Варфоломей бросился в жилую часть дома, разыскивая дорогу в подпол. Богатырей в этом доме не водилось, иначе на люке стоял бы тяжелый сундук. Варфоломею случалось еще до свадьбы носить на руках лошадей, а сил у него с той поры только прибавилось. Люк нашелся у того самого черного хода, через который четвертью часа ранее бежал в далекие трущобы к своему чудовищному покровителю экс-офеня.
Варфоломей рывком откинул люк, а потом сорвал его, как крышку с майонезной банки, и бросил за спину. Раздался чей-то вопль, но Варфоломей уже спускался в погреб. Фонаря у него не было, поэтому на втором шаге пришлось остановиться. Кто-то, — если быть точным, то академик, — богатыря подстраховывал; мощный киммерийский «дракулий глаз» лег в щепоть гипофету, и тот помчался вниз по жалобно скрипящей спирали: погреб был на редкость глубоким. Академик с интересом что-то вытащил прямо из штабеля, сложенного возле входа в подпол. Это были дорогие, тяжелые, чуть ли не лакированные дубовые вилы.
— Вилы — оружие кавелита… — пробормотал Гаспар.
Варфоломей уже грохотал по сырому полу подземелья. Здесь, конечно, была не Киммерия, подвал оказался глубоким, но отнюдь не просторным, в трех шагах младший гипофет обнаружил старшего брата, утомленно храпящего на ворохе гнилого сена. Обнаружив цепи, Варфоломей собрал все три в один узел и разом вырвал из стены. С непроснувшимся, почти раздетым, все еще закованным в рваные цепи братом на руках Варфоломей поднялся по лестнице, оборвал не особенно прочные цепи и бросил обратно в погреб.
— Чертовую жилу я сшивать не умею, — слабым, но ясным голосом сказал Веденей, кусая брата за бороду, однако не просыпаясь. — у меня другая профессия.
— У меня тоже другая, и я тоже не умею, — буркнул младший брат, вышиб дверь черного хода и вместе с академиком бросился в переулок. За углом на грузовичке их поджидал рояль. Грузовик уже отъезжал, когда прыжком дельфина через борт в кузов его прыгнул еще кто-то маленький, — понятно, бобер-зубопротезист.
Через час грузовик уже сгрузил пассажиров у трехшатровой церкви далеко за городской чертой, и Федор Кузьмич занялся бедами Веденея. Тот был истощен, на шкуре его имелись следы умелых пыток, причиняющих максимум боли и минимум вреда: именно таких мастеров экс-офеня одалживал у Кавеля Адамовича Глинского, «Истинного», именно с ними бежал Тюриков, надеясь, чьл попадет в тайные Карпогорские дебри, где сейчас размещался боевой штаб ересиарха и его основной жертвенный камень.
— А, это вы, — сказал Веденей Федору Кузьмичу, — мне сивилла так и говорила. А я не понял. Заскучал я тут что-то…
Федор Кузьмич не успел ответить: гипофет снова спал, усыпленный всего-то чистым воздухом. Все облегченно вздохнули, и все перекрестились — кроме рояля, конечно, который тихо и тактично стоял в стороне. Но долго оставаться тут было нельзя: младший брат взял уснувшего старшего на руки, и экспедиция продолжила путь на запад.
Ровно через двенадцать часов, повинуясь личному предсказанию главного предиктора Российской Империи графа Горация Аракеляна, в Богозаводск вступили отборные части 35-й Вологодской мотострелковой дивизии имени Св. князя Михаила Ярославича Тверского (того самого, от которого некогда натерпелся Арясин) и окружили центральную радельню колобковцев. Поскольку, как и предсказывали инструкции, никого из важных зачинщиков бунта захватить не удалась, то из рядовых был выбран наиболее значимый, им как раз и оказался мещанин Черепегин-старший, более известный в хрониках и сказаниях как Подкавель Богозаводский. Бунтовщик был закован в железа, в никели и самолетным этапом отправлен в Москву для срочного дознания.