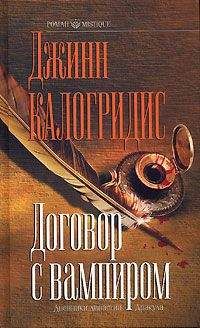Я напрягал слух, пытаясь услышать крики или стоны, которыми, как мне казалось, должны сопровождаться роды. Однако замок походил на склеп, тишину в котором нарушал лишь звук моих шагов, а мрак пытался разогнать неяркий свет одинокого фонаря. И все же я не мог отделаться от ощущения, что зло наблюдает за мной из всех щелей и прекрасно знает, куда и зачем я иду. Я обходил комнату за комнатой и звал Мери: сначала тихо, потом все громче и наконец начал выкрикивать ее имя в полную силу своих голосовых связок.
Тишина. Везде тишина. В комнатах, куда веками никто не заглядывал, меня встречала духота и густой слой пыли.
Я шел все быстрее. Мое волнение также нарастало. Я обыскал весь замок, за исключением комнат для гостей и личных покоев Влада. Сперва я решил осмотреть комнаты для гостей, ибо я лелеял надежду найти Мери там. Дверь, возле которой я совсем недавно говорил с мокрым и полуодетым герром Мюллером, оказалась распахнутой настежь. Внутри, как и везде, было темно.
Из-за смерти сестры и тревоги за Мери я начисто позабыл о бедных немецких путешественниках. Только сейчас я вспомнил, что должен был забрать чету Мюллеров в наш дом, и содрогнулся от ужаса. Подняв фонарь повыше, я прошел через гостиную в спальню, призывая откликнуться не только Мери, но и немцев.
К моему величайшему огорчению, спальня также была пуста, хотя по всем признакам Мюллеры покинули ее совсем недавно. Со стула кокетливо свешивалась женская ночная сорочка из тонкого шелка, отделанная кружевами. Такие нарядные сорочки невесты надевают в первую брачную ночь. Чувствовалось, что эту интимную деталь женского туалета бросили на стул с веселой беззаботностью. Я откинул балдахин просторной кровати. Одеяло и простыни были скомканы и смяты, а подушки – раскиданы в разные стороны. На одной из простыней я заметил пятнышко засохшей крови.
Из полудюжины подушек несмятой осталась только одна, она лежала возле спинки в ногах постели, а рядом с ней восседала (по-видимому, в качестве свидетельницы супружеских игр) кукла в белом кружевном платьице. Ее лицо и ручки были фарфоровыми, а туловище – тряпичным Видимо, она притомилась и, наклонившись вперед, уткнулась лицом в простыню. Кудряшки (кукла была брюнеткой) разметались в разные стороны, накрыв опущенные ручки.
В дальнем углу спальни высилась массивная ванна, заполненная серой водой. Возле кровати я заметил раскрытый чемодан. Его содержимое было основательно перевернуто, словно хозяева искали и никак не могли найти нужный предмет из их обширного гардероба. Одежда Мюллеров заполняла все стулья и пуфики спальни и едва ли вмещалась в один этот чемодан. Похоже, на сей раз никто из слуг не позарился на чужое.
Как давно супруги покинули спальню и где они сейчас? Обойдя комнату вдоль и поперек, я не обнаружил никаких зацепок. На душе у меня стало совсем тоскливо. Не хотелось думать, что Мюллерам уготована судьба несчастного Джеффриса. А какая судьба уготована моей Мери? Ответы на эти вопросы ждали меня в личных покоях В. – святая святых замка, куда не допускался никто.
Я двинулся туда. И опять в темных коридорах гулко звучали мои шаги. И опять мне казалось, будто кто-то следит за мною. Чем ближе я подходил к дядиным покоям, тем больший ужас охватывал меня.
Дверь в гостиную В. была открыта, но на этот раз я не увидел ни красноватых отсветов очага, ни мерцания свечей. Только из-под двери, ведущей в личные покои дяди, выбивалась тонкая полоска света.
Эта полоска тянула меня, словно магнит. Я поставил фонарь на столик между креслами, тихо пересек пространство гостиной и остановился перед внутренней дверью.
Действительность перестала существовать. Разумом я понимал, что я – взрослый, женатый человек, который вскоре станет отцом. Но, взявшись за ручку двери, я вдруг почувствовал себя на двадцать лет моложе. Я превратился в пятилетнего мальчишку, боязливо цепляющегося за отца, стоявшего тогда перед этой дверью.
Рука взрослого Аркадия повернула ручку и толкнула дверь. Когда-то то же самое сделала рука моего отца.
Скрипнувшие петли открыли туннель в прошлое. Взрослый Аркадий исчез. Время передвинулось на двадцать лет назад – в мрачные, безрадостные дни, наступившие после гибели Стефана.
Краткое мгновение, пока открывалась дверь, вместило целый пласт тягостных воспоминаний моего детства...
* * *
Вместе с отцом я переступаю порог. Отец крепко держит меня за руку. Его голос звучит нежно и ободряюще. Отец говорит: "Не бойся, Каша. С тобой не случится ничего страшного. Ты только верь мне и дяде..."
Глаза отца полны слез, и в них отражается мерцающий свет сотни зажженных свечей.
Мы прошли через маленький холл и оказались в огромном зале. Стену, что была слева от меня, всю, от пола до потолка, скрывал черный бархатный занавес. Напротив нас, в дальнем конце зала, находилась еще одна дверь, и при одном взгляде на нее мне почему-то стало страшно. Справа высился подиум, сделанный из темного полированного дерева, с тремя ступенями, которые вели к трону. Основание подиума украшали золотые буквы, составлявшие фразу: "Justus etpius".
"Справедливый и благочестивый".
По обе стороны от трона стояли высокие канделябры с зажженными свечами. На троне восседал дядя, и руки его величественно покоились на массивных подлокотниках.
От него исходила такая непоколебимая властность, такая нечеловеческая сила, что я глядел на него со страхом и восхищением, с каким, наверное, смотрел бы на красавца-льва. На нем была алая мантия, а голову венчала старинная золотая диадема, усыпанная рубинами. За троном, на стене, висел помятый и поцарапанный щит, возраст которого было трудно определить, Я лишь сумел различить очертания крылатого дракона и вспомнил, что такой же щит видел на портрете Колосажателя.
По правую руку В. я увидел золотую чашу, украшенную крупным рубином. Чаша стояла в особом углублении, выдолбленном в подлокотнике кресла.
Но сияние всех драгоценных камней затмевали глаза В., ярко горевшие на бледном лице, обрамленном длинными седыми кудрями. Изумрудный блеск этих глаз пронизывал меня насквозь; ум, светившийся в них, вызывал благоговейный страх. А своей красотой, как и восставшая из гроба Жужанна, он ослеплял подобно полуденному солнцу.
В почтительном молчании мы приблизились к графу.
У основания подиума отец преклонил колени, обвил меня руками и с непередаваемо тягостной, мучительной покорностью произнес:
– Вот мой сын.
– Что-то ты слишком грустен, Петру, – задумчиво отозвался граф.
Я едва не вскрикнул от удивления. Мне показалось странным, что эта величественная персона на троне способна говорить.