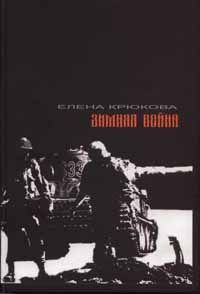…………………зачем этот ужас. Зачем этот ужас ему. Человек мертв – это уже дело морга. И всех кладбищ в Армагеддоне, для этого предназначенных.
Он стоит у безмолвной двери, набычившись. Сильно ударяет в нее обоими кулаками, рискуя в кровь разбить руки. Так застывает – с кулаками над головой.
– Черт возьми. Черт возьми. Черт меня возьми совсем. Лучше бы жена моя, Женевьева, увела меня тогда с собой к Луне – с балкона. Лучше бы я в той коммунальной ванне навек уселся с разрезанными руками. Черт меня возьми совсем. Эй! Кто-нибудь!..
Эхо. Слепота. Глухота. Немота.
………………– Господи!.. Полыхает-то как!.. И ни одной аварийной машины!..
– Да вот, вот, едут, пожарные наши бестолковые… люди-то там уже все равно сгорели… или мечутся, кричат… факелы живые…
– Кто, кто поставил рядом с посадочной полосой эту машину «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ»?!.. вот так обезопасили… все в России так!.. он ведь крылом зацепился, крылом… и взорвался!..
– Мама-а-а-а, я боюсь, как самолет горит… я не хочу лететь… я хочу – дома!..
Лех подносил и подносил сигарету ко рту. С виду спокойно он курил. Жадно затягивался. Надвинул кепчонку на глаза. «Я не верю, что она погибла. Не верю».
КТО – ОНА?!
«Произвел посадку рейс сто двадцать второй из Иркутска!» – гундосый голос аэропортовской дикторши дрожит, она тоже видит в свое прозрачное окошечко, как полыхает на летном поле самолет рейс сто двадцать девять. «Встречающих просим пройти к стойке номер два!..»
Лех бросил сигарету. Лицо его, отраженное в лице чужого мужика, глядящего на него пристально из темной орущей толпы, сначало застыло, потом дернулось, как под током.
От стойки номер два шла Воспителла, в разодранной блузке и рваном свитере, в его собственной куртке, с горящими щеками.
От автосправочной наперерез ей шли они, черные.
Они медленно шли навстречу ему: Воспителла – с одной стороны, черные – с другой.
Через стеклянные двери было видно буйство и бешенство огня – горел взорвавшийся самолет.
Огонь летел оранжевым, золотым широким крылом во всю ширь взгляда.
По всей земле.
Мало ли он видел, как горели взорванные самолеты на Войне?! Он там такого навидался. До отупенья. До жесткого, неостановимого смеха, похожего на птичий клекот: а-ха-ха-ха-ха-ха. А что это за старухин голос рядом с ним, за его спиной. Он не оборачивается. Нельзя оборачиваться. Он обернется – и увидит, что Воспителла уже старуха. А может, это старая Кармела?! Все мы когда-то станем старыми. И все умрем. Это грустно. Люди в горящем самолете, там. Им больно. Они тоже на Войне. Война повсюду. Что ты скрежещешь, Старуха?! Мне тебя не надо. Не тяни свою песню.
А старческий голос все гудел, все шелестел, хрипел:
– ………………да, я вижу, как они борются. Девочка… ох, и хороша девочка!.. стреляет из смит-вессона, но зря это она делает… зря!.. потому что из-за ее плеча выскакивает человек в полковничьей форме… да, это погоны полковника… он выдергивает из кобуры револьвер, наскакивает на черных, вступает с ними в рукопашный бой… они все, сцепившись в черный клубок, катятся по полу… Народ визжит и кричит!.. Люди обжигаются и отскакивают, так воздух накален вокруг них… Девочка кутается в разорванную кофту, стоит поодаль… смотрит и плачет… Не плачь, дурешка!.. Ты изобрела лучшую в мире помаду, и лучше и горячее всех в мире ты умеешь любить. Тебя не убьют. А ты что стоишь, Лех?!.. Ты ж ее кавалер… Ты же спал с ней… с Армагеддонской Блудницей… вперед!.. Дай им по зубам!.. А то полковник отымет у тебя твою кралю… Глянь, как он, в пылу боя, искоса взглядывает на нее… беги, дерись!..
Он сорвался, упал вперед, разодрал пространство телом. Заработаю еще шрам, другой. Не привыкать. Мужчина всегда дерется. Он вклинился, вошел ножом тело в гущу борющихся. Слышал хрип полковника. Мощно дерутся черные. Но и он не лыком шит. Его обучили в свое время хорошим премудростям. Каратэ-до, вин-чун… дзю-до. Как они валят его на спину! А вот вам! Он развернулся, выбросил ногу, ударил пяткой в скулу главаря в светонепроницаемых очках. Тот падал навзничь на каменные плиты, и Лех видел, как разбивается его голова, раскалывается наподобье ореха. А ты, грозная Старуха, видишь, как у меня выкатывается из нагрудного кисета громадный синий камень – и катится, катится по гладкому полу аэропорта в никуда. Воспителла, лови!.. Старуха, она тебя не слышит. Она слышит только свои слезы. И Око Мира, синий Третий Глаз Гаутамы подбирает с полу маленький замурзанный цыганский мальчик, ведь он блестит лучше любой монетки, сильней блесток на площадной елке.
В подземном переходе было пустынно: ни души. Воспителла держала Леха за руку, они бежали сломя голову. Мы вырвались от них, вырвались!.. А полковник?.. Что от тебя хотел этот полковник?.. Да ничего особенного, он, по-моему, меня с кем-то перепутал, он думал, что я… он меня назвал: Анастасия… Я ему и говорю: я не Анастасия! А он схватил меня за плечи…
Я видел, что он схватил тебя за плечи. Больше не схватит никогда.
Он не сказал Воспителле, что он узнал Исупова, что это полковник его части, и под его командованьем он воевал, и к нему возвращался. Узнал ли его Исупов? Все возможно. Они люди военные. Осторожные. И Камень; сейчас полмира, разнюхав тайну, висящую в дымном предсмертном воздухе, выслеживает Камень. Если Исупов в Армагеддоне – и Серебряков тоже здесь. Что это значит? С Войны сюда не так-то просто прилететь. Это значит, что они все повязаны одной игрой. По правилам? Без правил? А ты бил под дых и в ухо черным дюдям в очках без правил, Лех?!
– Я хочу шоколадного торта, Воспителла. Ты умеешь печь шоколадный торт?
– Лех, милый… – Она сглотнула, приоткрыла рот, запахивала разодранную кофточку, держала в кулачках лацканы мужской кожаной куртки. – Лех, родной, где наш Третий Глаз?.. его ждут в Париже… его ждет русская Цесаревна… говорят… мне донесли… ну, шпионы везде… что она мажется моей, моей помадой…
Он запустил руку за пазуху. Помертвел.
– Я потерял его.
Какой поганый, банный, клозетный кафель в этом подземном гадком переходе.
Навстречу им, застывшим, бросился наперерез приземистый мужик, бритый и широколицый, с тяжелой челюстью, с прицельным, пронзительным взглядом зверя в тайге. Воспителла закричала. Бандит сделал молниеносный выпад. Лех отлетел к кафельной стене, ударился о кафель спиной и затылком, застонал, стал оседать, но удержался на ногах.
– Господи, Господи, – шепнул он и сплюнул. – Как мне надоело насилье в этом проклятом мире. Врешь, шалишь. Я не буду на тебя тратить свой автоматный огонь. Свой последний патрон. И последнюю пулю получишь не ты… гаденыш. Я еще помню все, чему меня учили ТАМ. Я сейчас покажу тебе, щенок ты, култышка ты недопиленная, наше каратэ… наше вин-чун нашей Войны. Я еще… ничего не забыл. Х-ха!