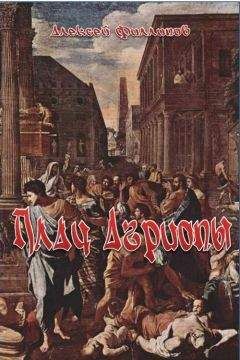Павел вспомнил о пункте охраны, спрятанном под лестницей. Двигаясь по стенке, на цыпочках, проскользнул к «аквариуму». Высунулся из-за перил и, через стекло, обозрел его внутренности. Получилось забавно — как если бы он играл в прятки и выскочил из-за угла на водившего. Не хватало только выкрикнуть: «Бу!» Дверь хрупкой конструкции была открыта, как и входная дверь особняка. Внутри — никого. Только мерцали мониторы, показывавшие статичные картинки больничных интерьеров. Две из них казались одинаковыми: длинные безлюдные коридоры, расчерченные белыми прямоугольниками запертых дверей. На одном мониторе с такой картинкой красовался жёлтый стикер «Второй этаж», на другом — «Третий этаж». Ещё два монитора показывали — соответственно — уличное крыльцо парадного входа и холл изнутри. Они не были подписаны. Наконец, на последнем отображалась маленькая дверь, которая куда больше подошла бы строительной бытовке, чем роскошному особняку. К двери вели ступени; камера смотрела на них сверху вниз. Павел решил, что, вероятно, перед ним — тот самый чёрный ход в клинику, в существовании которого он сомневался не так давно, — либо вход в подвал, где держат в цепях наиболее буйных больных. Хех. Чёрный юмор — лучше, чем никакой. К тому же, он истребляет страх.
Управдом поочерёдно вгляделся в каждый из мониторов. Рассмотреть картинки детально оказалось не так-то просто: руководство клиники, видимо, сэкономило на профессиональной системе видеонаблюдения; качество изображения оставляло желать лучшего. Павел подумал: может, помимо этого наблюдательного пункта, в психушке есть ещё один — оборудованный получше. Когда утром Ищенко провожал его в палату Струве, он приказывал кому-то заблокировать выход в коридор. Да и коммуникационное устройство, установленное в предбаннике палаты, вряд ли было автономным и предназначалось исключительно для санитарки.
Павел вглядывался в изображения на мониторах нехотя: картинки были нечёткими, рябили; да и в глаза — будто насыпали песка. Управдом устал и оголодал. Он усмехнулся: против Босфорского гриппа у него, похоже, иммунитет, но чума всё-таки способна справиться с ним — уморить голодом и недосыпом.
Под мониторами располагался столик, большую часть которого занимало устройство, напоминавшее микшерский пульт или рабочее место ди-джея. Наверное, ручки настройки позволяли включать в камерах режим зума и менять углы обзора, но Павел не отважился поиграть с управлением. Зато его отваги хватило, чтобы позаимствовать пачку овсяного печенья со стола. Он с удовольствием захрустел сухими сахарными кругляшами.
На одном из мониторов мелькнула тень. Павел насторожился. Движение в кадре не повторялось. Да и было ли оно? А если было — то где? Управдом взглянул на стикер: «Третий этаж». Тот самый, где обитал Струве. Павел наморщил лоб. Палата профессора — в самом конце длинного коридора. Просматривается ли с камеры коридор целиком? Ответить на этот вопрос однозначно не получалось. К тому же, пространство в кадре странно кривилось; Павел не мог понять, дефект ли это изображения, или домовой постройки. Он, отдавая себе отчёт в бессмысленности деяния, всё-таки постучал подушечками пальцев по корпусу монитора. Кто ж не знает народного рецепта: барахлит телевизор — стукни его, и электродруг вернётся в тонус.
Эффект оказался выше всяких ожиданий.
Сперва изображение на экране задёргалось, замельтешило.
Потом — разом — вырубилась вся великолепная пятёрка мониторов. Только что мерцали — худо-бедно справлялись с обязанностями, — и вдруг — пришла темнота.
А потом — был вопль, скорее визг.
Тонкий, однотонный, он нарушил тишину. Не разорвал, не уничтожил — лишь нарушил, смутил. Павел расслышал его еле-еле, да и то только потому, пожалуй, что обладал почти музыкальным слухом. Ещё немного — и звук бы упорхнул за границы восприятия, остался вещью в себе, вещью для себя. Но сейчас — Павел воспринимал его на свой счёт. Павел боялся его. Кто и как только не пугал управдома на протяжении вот уж нескольких дней кряду. Как там люди-то говорят? Пуганая ворона куста боится? Но визг, раздавшийся в клинике за два часа до полуночи, не просто пощекотал нервы. Он ничего не добавил в мироощущение Павла «от себя»: ни страшного образа, ни угрозы. Но он вытащил из глубин памяти одно омерзительное воспоминание.
Так визжал многоцветный мохнатый паук, которого Павел, будучи семилетним хулиганистым пацаном, поджарил каплей горящей пластмассы. Всё — в обход указаний матери: не пачкаться, не играть с огнём, не соваться в муравейник. Малолетний хулиган был себе на уме. Обожал поджигать хрусткие одноразовые стаканчики, фасовочные полиэтиленовые пакеты, расчёски — и потом, изображая пилота стратегической авиации, бомбить вредных садовых муравьёв. Но муравьи — цели ничтожные. Паук — другое дело. Тяжёлая, мерзкая Агриопа Брюнниха, с жёлтыми полосами на брюхе, похожая на уродливый инопланетный танк. Павел вспомнил тот день, когда изловчился и обрушил на паучину свой игрушечный напалм. И вспомнил, как паук завизжал. На одной ноте, долгим страшным визгом. Невинная отвратительная тварь словно из последних сил выдавливала из себя: «Убийца!», — обличала Павла.
Уже потом, неделю спустя, Мишаня Жигайло, двенадцатилетний обормот и «настоящий разбойник», как называли его соседские старушки, высмеял Павловы страхи. «У него шкура горела мокрая — вот и свистела. У пауков нет рта, они не могут кричать, даже если им больно», — сообщил Мишаня, в доказательство оторвав три из восьми лап у нелепого, им же пойманного, косиножки. Но малолетний Павел, в целом доверявший суждениям Мишани, так и не научился справляться с тоской, наваливавшейся на сердце при воспоминании о пластмассовой бомбардировке. Он думал: что, если он причинил пауку такую немыслимую боль, что даже немой — возопил?
Тогда, в детстве, Павел услышал один единственный крик паука. Одинокий вопль, который не повторился. Теперь, в клинике, звук тоже умер без возврата.
Управдом пересилил слабость и страх, выскочил из «аквариума» и, перемахивая через ступени (утренняя беготня, дубль два?), бросился наверх. Как же велик был соблазн сорваться из фешенебельной психушки ко всем чертям! С той же скоростью метнуться в ином направлении, улепетнуть прочь из особняка. Но Павел даже не притормозил — не пожелал обдумать своё положение. Здравомыслие наверняка сослужило бы дурную службу. Безоружный, голодный, продрогший на осеннем ветру и усталый, — вряд ли управдом мог прийти на помощь тому, кто, в этих стенах, в ней всерьёз нуждался. Но всё-таки он торопился наверх. Так сильно, что едва не проскочил «следы».