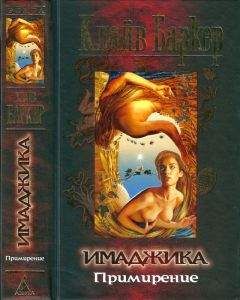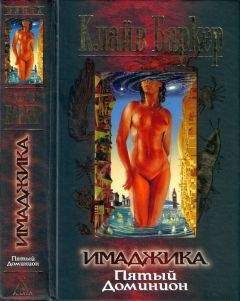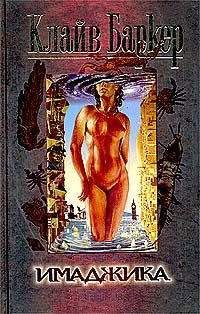Одна из дверей, судя по всему, вела в лифт, но, подойдя поближе, она услышала гул работающего мотора и, не желая терять ни минуты, решила подняться по лестнице пешком. Хотя свет на лестнице не горел, это ее не остановило, и она ринулась наверх, перескакивая через две, а то и через три ступеньки. Добежав до двери, ведущей на верхний этаж, она стала нашаривать в темноте ручку, и в этот момент с той стороны до нее донесся чей-то голос. Слов она разобрать не смогла, но голос звучал утонченно, едва ли не чопорно. Может быть, кто-то из «Tabula Rasa» все-таки остался в живых? Блоксхэм, например, — Казанова подвала?
Она распахнула дверь. С другой стороны было светлее, хотя и не намного. Комнаты по обе стороны коридора были погруженными во мрак зрительными залами с опущенными занавесями, но голос вел ее сквозь серый сумрак к двери, одна из створок которой была приоткрыта. За дверью горел свет. Она стала осторожно подкрадываться. Толстый ковер заглушал ее поступь, так что даже когда говоривший прерывал свой монолог на несколько секунд, она продолжала двигаться вперед и дошла до дверей без единого шороха. Оказавшись на пороге, она решила, что медлить не имеет смысла, и распахнула двери настежь.
В комнате стоял стол, а на нем лежал Оскар в луже крови. Она не вскрикнула и даже не почувствовала тошноты, хотя он и был вскрыт, словно пациент во время операции. Собственная чувствительность волновала ее куда меньше, чем муки человека, лежащего на столе. Он был еще жив. Она видела, как сердце его бьется, словно пойманная рыба в кровавой луже.
Рядом на столе лежал нож хирурга. Его обладатель, скрытый в густой тени, произнес:
— А вот и ты. Входи, что стоять на пороге? Входи же, — Он оперся на стол руками, на которых не было и пятнышка крови. — Ведь это же я, дорогуша.
— Дауд…
— Ах! Как это приятно, когда тебя помнят. Кажется, такой пустяк… Ан нет, не пустяк. Совсем не пустяк.
Он говорил с прежней театральностью, но медоточивые нотки исчезли из его голоса. Речь его, да и внешний вид были пародией на прежнего Дауда; лицо напоминало грубо вырубленную маску.
— Присоединяйся же к нам, дорогуша, — сказал он. — В конце концов, это наше общее дело.
Как ни удивлена она была увидеть его (но в конце концов разве Оскар не предупреждал ее, что таких, как Дауд, трудно лишить жизни?), робости перед ним она не испытывала. Она видела его проделки, его обманы и его кривляния, но она видела и то, как он висел над бездной, умоляя о пощаде.
— Кстати сказать, на твоем месте я бы не стал прикасаться к Годольфину, — сказал он.
Она проигнорировала его совет и подошла к столу.
— Его жизнь висит на тонкой ниточке, — продолжал Дауд. — Если его пошевелить, клянусь, его внутренности рассыплются по столу. Мой совет — пусть лежит. Насладись моментом.
— Насладись? — сказала она, чувствуя, что не в силах больше сдерживать отвращение, хотя и сознавала, что именно этого ублюдок и добивался.
— Не надо так громко, моя сладенькая, — сказал Дауд, словно ее тон причинил ему боль. — Разбудишь ребеночка. — Он хохотнул. — А он ведь действительно ребенок по сравнению с нами. Такая недолгая жизнь…
— Зачем ты это сделал?
— С чего начать? С мелочных причин? Нет. С самой главной причины. Я сделал это для того, чтобы стать свободным.
Он наклонился вперед, и зигзагообразная граница света и тени рассекла его лицо.
— Когда он сделает свой последний вдох, дорогуша, — что произойдет очень скоро, — роду Годольфинов настанет конец. Когда его не будет, наше рабство кончится.
— В Изорддеррексе ты был свободен.
— Нет. Может быть, на длинном поводке, но свободой это назвать нельзя. Какая-то часть меня знала, что я должен быть вместе с ним дома, заваривать ему чай и вытирать ему после мытья кожу между пальцами на ногах. В глубине души я по-прежнему оставался его рабом! — Он снова посмотрел на распростертое тело. — Просто какое-то чудо, что он еще живет.
Он потянулся к ножу.
— Не тронь его! — резко сказала она, и он отпрянул с неожиданной живостью.
Она осторожно наклонилась над Оскаром, стараясь не прикасаться к нему из опасения, что это может ввергнуть его в еще больший шок и привести к гибели. Его лицевые мускулы подергивались; белые как мел губы были объяты мелкой дрожью.
— Оскар? — прошептала она. — Ты слышишь меня?
— О, если б ты только могла сама себя видеть, дорогуша, — заворковал Дауд. — Когда ты смотришь на него, у тебя глаза — как у раненой оленихи. И это после того, как он использовал тебя. Как он угнетал тебя.
Она наклонилась к Оскару еще ближе и вновь произнесла его имя.
— Он никогда не любил ни меня, ни тебя, — продолжал Дауд. — Мы были его имуществом, его рабами. Частью его…
Глаза Оскара открылись.
— …наследства, — договорил Дауд, но последнее слово он произнес едва слышно. Стоило Оскару открыть глаза, как Дауд тут же отступил в тень.
Белые губы Оскара сложились в форме ее имени, но движение это было совершенно беззвучным.
— О Боже, — прошептала она. — Ты слышишь меня? Я хочу, чтобы ты знал, что все это не напрасно. Я нашла ее. Понимаешь? Я нашла ее.
Оскар едва заметно кивнул. Потом, с предсмертной осторожностью, он облизал губы и набрал в легкие немного воздуха.
— …это неправда…
Она расслышала слова, но не поняла их смысла.
— Что неправда? — спросила она.
Он вновь облизал губы. Речь требовала от него непомерных усилий, и лицо стянула напряженная гримаса. На этот раз он произнес только одно слово:
— …наследство…
— Я была не наследством? — сказала она. — Да, я знаю это.
Призрак улыбки тронул его губы. Его взгляд блуждал по ее лицу — со лба на щеку, со щеки на губы, потом вновь возвращался к глазам, чтобы встретиться с ее твердым взглядом.
— Я любил… тебя, — сказал он.
— Это я тоже знаю, — прошептала она.
Потом его взгляд утратил ясность. Сердце в кровавой луже затихло, а черты лица его разгладились. Он умер. Труп последнего из рода Годольфинов лежал на столе «Tabula Rasa».
Она выпрямилась, не отрывая взгляд от мертвого тела, хотя это и причиняло ей боль. Если ей когда-нибудь придет в голову заигрывать с темнотой, то пусть это зрелище прогонит искушение. Сцена эта не была ни поэтичной, ни благородной; на столе лежала груда отбросов, вот и все.
— Свершилось, — сказал Дауд. — Странно. Я не чувствую никакой разницы. Конечно, на это может потребоваться время. Я думаю, свободе надо учиться, как и всему остальному. — За этим бормотанием она с легкостью могла расслышать едва скрываемое отчаяние. Дауд страдал. — Ты должна кое-что узнать… — сказал он.