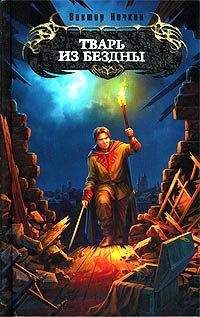Вольфрама начала бить крупная дрожь, как всегда перед дракой. Очень и очень злое происходило сейчас в паре десятков любекских локтей. Он крепко взялся за рукоять меча, соображая, как лучше атаковать. Обычно классическим цвайхандером действуют как коротким копьем, перехватывая одной рукой за рукоять, другой же берясь за основание клинка. Но незримый голос нашептывал на ухо, что здесь этот фокус не пройдет. Колоть такое чудовище — все равно булавкой в тень тыкать. Или медведю соломиной в ухе ковыряться.
А Моровая Дева подходила все ближе и ближе, она словно скользила над землей.
Дальше все пошло совсем не так, как порешили монах и солдат. Совсем не так.
— Шиксешустерн! — взревев, ландскнехт вылетел из-за угла дома, выводя на удар цвайхандер. Мастерство не пропьешь, тем более разбавленным вином захудалого кабака. Вольфрам много лет жил мечом, тело все делало само. Упор на ногу, разворот всем корпусом «на скрутку». Как говаривал первый наставник Густава — «удар делается не руками, удар достается из пятки и задницы, всем телом». Оружие лежало в крепких руках как влитое, и прием начался безупречно.
Начался…
Время словно замедлилось, потекло тягуче, словно хороший мед за ложкой. Мускулы стонали, как натянутые судовые канаты, но с каждым мгновением меч все замедлял движение. Дева развернулась навстречу угрозе — вот она стоит в пол-оборота, а сейчас уже смотрит прямо на Вольфрама, будто в миг вывернулась наизнанку. Темные провалы глазниц, словно чернильные пятна на абсолютно белом, точеном лице, лишенном всякого выражения.
Медленно-медленно клинок шел к цели, и так же медленно тянулась навстречу немцу рука Девы, удлиняясь противно природе и хитрой науке анатомии…
Монах хотел крикнуть, осенить нежить крестным знамением, но рука замерла, скованная смертным холодом. Марьян закрыл глаза и всем своим существом обратился к Тому, кто стоит над миром, к всеблагому и милосердному, моля об одном — дать ландскнехту толику силы, нужной для доброго дела.
Вспышка ослепила Байцера сквозь плотно сомкнутые веки, полоснула, как бритвой, в уши ударил оглушительный звон, металл будто вскрикнул от боли. Когда монах сумел протереть слезы, хлынувшие обильным потоком, то увидел, как падает в грязь ландскнехт. С протяжным всхлипом Густав осел на землю — в лице ни кровинки, губы посерели, как у покойника. Он так и не выпустил рукоять меча, переломленного аккурат посередине, словно им рубили лучший турнирный доспех, а не бесплотную тень.
— In nomine Patris… — начал было монах, но слова замерзли в горле.
Рядом тяжело плюхнулось нечто, смахивающее на дамскую перчатку. Мгновение иезуит всматривался в предмет, пока не понял, что это. Густав сумел. Цвайхандер сделал свое дело, отсек руку нежити, чисто и одним ударом, как топор палача. Платок, выпавший из пальцев Девы, невесомо коснулся сырой, утоптанной травы и дрогнул, распался на десяток серых крыс, разбежавшихся в разные стороны с утробным зловещим писком…
Дальше монах видел себя как со стороны. Вот он, поскальзываясь, бежит к Деве. Вот вылетает из ладони пузырек тонкого стекла, разбрызнувшись о порождение Геенны мириадом осколков. Вот святая вода, над которой сам Папа простирал ладони, ручейками бежит по савану, укрывающему плечи Девы, вспыхивая бледно-желтыми огоньками, словно то и не вода вовсе, а пылающее масло. С беззвучной вспышкой сияние охватило Деву, сковав замогильным светом.
Бледный овал лица нежити развернулся к Марьяну. Иезуит так и не увидел ее глаз, даже не понял, есть ли что-то в глубине черных провалов, но был уверен, что своим потусторонним зрением Дева в одно мгновение заглянула к нему в душу, будто запоминая, ставя невидимое клеймо, которое не смыть, не стереть никакими ухищрениями.
И спустя мгновение чудовище исчезло, растаяло, как дым в ночи, словно слившись с мировым эфиром….
— Густав, идиот, зачем?! Договаривались же, ты ее будешь только отвлекать, пока я…
Посреди деревеньки, утонувшей в грязи, монах тряс за плечи умирающего ландскнехта и кричал от неописуемой боли, рвущей душу.
— Зачем?! Ты ведь весь род свой на Черную Смерть обрек, коснувшись ее! Даже не рукой — мечом!
— Знаешь, Марек, — улыбнулся Вольфрам, и было видно, что короткое движение мышц лица поглотило почти все оставшиеся у солдата силы. — Я ведь сирота… И про проклятие Девы знал не хуже тебя… Ведь не только в Салерно учился, еще и со Швальбе немало дорог исходил.
— Нет, нет, нет!!! — взвыл Байцер, уже понимая, что — все. Доппельзольднер провел свой последний бой.
Далеко на западе громыхнуло, сверкнула молния. Зашлепали первые капли нового дождя.
— Лучшее напутствие в моей жизни, монах… — проговорил ландскнехт, судорожно сжимая руку иезуита последним в своей жизни движением. — Хорошо было… еще раз… как раньше…
И замер.
Дождь понемногу перерастал в ливень. Деревня по-прежнему пряталась в молчании и тьме, словно обратившись в кладбище. Капли воды струились по лицу Марьяна, смывая слезы.
— Мы все-таки есть, — прошептал он. — Ты неправ. Мы все-таки остались. И Орден не умер, не умрет, пока мы есть.
Эпилог. О старых долгах, которые никогда не поздно выплатить.
Лес притих. То была не обычная тишь ночной природы, когда в траве, под листьями, меж деревьев кипит приглушенная, тайная жизнь разного мелкого зверья. Нет, мрачная давящая глушь придавила лес, низко расстелилась над граничащей с лесом равниной, прорезанной редкими тропками. Злой ветер гнал по небу беспокойные рваные тучи, дергал метелки ковыля, беспорядочно прочесывал высокую траву. Яркие звезды мигали, будто отворачивались от беспокойной земли, даже луна скрывалась за серыми облаками.
Одинокий путник остановился, не доходя сотни шагов до опушки, сложил на землю поклажу, с наслаждением потянулся, расправил натруженные плечи.
— Хорошо, — пробурчал он себе под нос по давней привычке. Человек много лет странствовал по свету в одиночестве и давно завел привычку разговаривать сам с собой.
— Хорошо, — повторил путник, разминая пальцы и кисти рук.
Он выглядел очень обыденно, как ремесленник средней руки, перебирающийся на другое место в поисках лучшей доли и более щедрых заказчиков. Не стар, лицо далеко от обрюзглости, но иссечено глубокими морщинами, которые даруют возраст и суровая жизнь, богатая тяготами. Не высок и не низок, крепко сбитый, жилистый, но не слишком широкий в плечах, неприметный в толпе. Одет опрятно и чисто, но не богато, на платье следы неоднократной штопки. Единственное, что выделялось из общего ряда — громадный двуствольный штуцер, который путник нес на плече и сложил вместе с заплечным мешком. Оружие было сделано в характерном тяжеловесном стиле немецких мастеров, но богато украшено по французскому образцу, с выгравированным на прикладе «Jean Leclerc». Ружье напоминало скорее маленькую пушку и весило, должно быть, не меньше пуда, но хозяин управлялся с ним легко, как с дамским охотничьим баллестером.