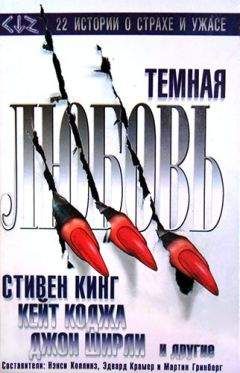При уходящем свете он начал рисовать — быстро, искусно, широкими уверенными штрихами. Он смотрел под разными углами, набрасывая шею осы, талию, плечи. Он представил себе это создание в полете, с напряженными крыльями в тонких прожилках. Он нарисовал осу за едой, нарисовал ее, грозящую ужалить. Он пробовал разные фасоны — то строгие и элегантные, то фантастические и причудливые. Оказалось, что он уже определил пол осы как женский. Другого пола объектов у него не бывало. Он вспомнил Анук, свою первую модель, девушку со сколиозом, которую привела его мать для проверки оперивающегося таланта своего подрастающего сына. Сейчас его талант был так же послушен, как тогда, и разум так же изобретателен и свободен.
Он работал все предрассветные часы, потом чуть отдохнул, пока его не разбудили церковные колокола. В юности он был набожен, и в первых его коллекциях часто встречались религиозные аллюзии. Но набожность сменилась равнодушием, и уже тридцать лет он в церкви не бывал. Что осталось — это воскресные колокола, которые Линдерштадт смаковал во имя ностальгии и мучительной вины. Это была у него привычка, а он держался своих привычек крепко.
В это утро посетителей не было, и он был предоставлен сам себе. Было холоднее, чем накануне. Оса оставалась неподвижной, и когда к полудню температура не поднялась, Линдерштадт был спокоен, что она мастерскую не покинет. Он уже закончил эскизы, и следующая была задача — найти приемлемую форму, в которой их воплотить. У него были сотни манекенов любой вообразимой формы, на некоторых было имя конкретных заказчиков, другие были просто под номерами. Еще были другие фигуры — корзины, цилиндры, грибы, треугольники, которые все так или иначе использовались в коллекциях. Любой предмет, имевший длину, ширину и высоту, Линдерштадт умел встроить в женскую одежду. Точнее, он мог вообразить себе женщину в этом предмете, дающую ему свою неповторимую форму и сущность, наполняющую каждое касание и пересечение духом женственности. Он в душе был пантеистом и не ожидал трудностей в поиске чего-нибудь, подходящего для осы. Но ничто не остановило его взгляд; ни один предмет из его огромного собрания близко не подходил к характеру или композиции этого создания. Оно было загадочным. Придется работать прямо на насекомом.
Он вернулся в салон и подошел к своей модели. Для человека, настолько привычного к божественной пластичности плоти, бронеподобная твердость и негибкость экзоскелета осы была "Достойной задачей. Каждый крой должен быть совершенством, каждый шов — самой точностью. Здесь не было ни груди, так мягко наполняющей пузырящуюся ткань, ни бедер, оттеняющих форму тонкой талии. Это как работать с костью, как одевать скелет. Линдерштадт был заинтригован. Он шагнул вперед и коснулся тела осы. Оно было холодным и твердым, как металл. Он провел пальцем по крылу, наполовину ожидая, что его нервная энергия вызовет в крыле жизнь. Прикосновение всегда вызывало у него сильнейшие эмоции — вот почему он в работе с моделями пользовался указкой. Надо было, наверное" той же указкой работать и с осой, потому что от контакта сразу закололо кожу, на момент затмевая чувства. Рука его упала на одну из ног осы. Она не слишком отличалась от человеческой ноги. Волосы были мягкими, как человеческие волоски, которые его модели яростно обесцвечивали или удаляли воском, или сбривали. Суставы колена и лодыжки были устроены точно так же, коготь заострен и костляв, как человеческая ступня. Внимание Линдерштадта переключилось на талию осы — для человека точка закрепления между ногой и торсом. У осы она были ниже и куда уже, чем у любого человека. Она была тонкой, как черенок трубки, чудо, которое он мог легко охватить большим и указательным пальцами.
Он достал из кармана сантиметр и начал обмеры — от локтя к плечу, от плеча к кончику крыла, от бедра к стопе, отмечая все цифры в блокноте. Иногда он останавливался, отступал на шаг, чтобы вообразить себе ту или иную деталь, аспект, свободный рукав, воротник с бахромой, оборку. Иногда он делал себе заметку, иногда быстрый набросок. Когда пришло время обмерять грудь, ему пришлось лечь на спину и залезть под осу. Отсюда у него был хороший вид на безволосый и сегментированный торс, а также на жало, которое было опущено, как пика, и направлено в точности ему между ног. После минутного колебания он повернулся и измерил его тоже, раздумывая, не из тех ли она ос, что умирают, ужалив, и если да, то как отобразить в одежде эту жертву. Потом он вылез и посмотрел на свои цифры.
Оса была симметричной, почти совершенно симметричной. За многие годы своей карьеры Линдерштадт всегда искал путей нарушить подобную симметрию, стараясь вместо того подчеркнуть тонкие человеческие различия между правым и левым. Всегда было что подчеркнуть — чуть более высокое бедро, плечо, грудь. Даже глаз, чуть иначе блестящий радужкой, чем его сосед, мог вызвать какой-то отклик в цвете платья под ним. Успех Линдерштадта во многом был связан с неимоверной способностью открывать такие асимметрии, но оса в этом смысле представляла трудности. Здесь не было ничего, отличающего правое от левого, будто оса была издевательством над самим понятием асимметрии, индивидуальности или, в силу этого — над самой карьерой Линдерштадта. Ему пришло в голову, что он мог быть неправ, и возможно, что истинный поиск ищет не особенности, а постоянство форм, повторение и сохранение. Возможно, что пребывает — именно обыденность, выживает — именно та пропорция, что держит он сейчас в своих руках.
Линдерштадт понес блокнот в главное ателье и стал работать над первым платьем. Он решил начать с простого — бархатное облегающее неотрезное платье с узкими проемами для крыла и ноги и белым тюлевым воланом снизу, скрывающим жало. Не имея времени для муслиновых прикидок, он сразу стал работать с самой тканью. Обычно эту работу делали его помощники, но сам мастер не утратил искусства работы с ножницами и иглой. Работа шла быстро, и он уже частично сшил платье, когда вспомнил название отряда, к которому принадлежала оса. Hymenoptera — ptera означает "крыло", и hymeno — в честь греческого бога брака, что означает связь между передними и задними крыльями осы. Сам он никогда не был женат, никогда не прикоснулся к женщине иначе как в рамках своей профессии и уж наверняка никогда не прикасался интимно. Поговаривали, что он боится интимных прикосновений, но скорее он боялся подвергнуть испытанию чистоту своего зрения. Его женщины — это были драгоценности, самоцветы, которыми следует любоваться, как всем красивым и блестящим. Он их одевал, чтобы их обожать. Он их одевал, чтобы сохранить во дворце своих снов. Но теперь, коснувшись тела осы, вдохновленный этим созданием, не похожим на него так, как женщина не походит на мужчину, он стал думать, не упустил ли он чего-то при таком подходе. Плоть просила плоти. И можно ли исправить такое упущение всей жизни?