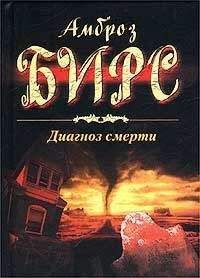Хотя синтаксис документа был небезупречен, его смысл представлялся вполне однозначным. Орфография тоже была нетрадиционной – наверное, правильно будет назвать ее фонетической, – но и она не затуманивала суть. Судья, заверяя завещание, сказал тогда, что без пяти тузов такой расклад не побьешь. Что же до мистера Брент-шоу, то он лишь добродушно улыбнулся и, отдав с потешной чопорностью последний долг покойному, позволил привести себя к присяге в качестве душеприказчика и условного наследника. Словом, все было сделано по закону, который развеселые законодатели приняли, уступив настояниям своего коллеги от округа Маммон-хилл. На той же сессии, как потом выяснилось, учредили две-три синекуры, а также утвердили ассигнование крупной суммы из бюджета округа на строительство железнодорожного моста, который, пожалуй, больше пригодился бы в местности, где есть железная дорога.
Само собой, у мистера Брентшоу и в мыслях не было извлечь из своего нового положения хоть малейшую выгоду или впутаться благодаря странной приписке к завещанию в судебную тяжбу. В нищих Гилсон, правда, не числился, но надо сказать, что податные чиновники бывают рады, если не приходится доплачивать за публику такого рода. Но когда взялись перебирать бумаги, оставшиеся после покойного, вдруг обнаружились документы, из которых следовало, что Гилсон владел солидной недвижимостью в восточных штатах, а еще – чековые книжки на изрядные суммы, каковые он держал в нескольких банках, не столь разборчивых, как «заведение» мистера Бентли.
Эта сенсационная новость мгновенно сделалась всеобщим достоянием, и Маммон-хилл буквально взорвался. Маммон-хиллский «Пэтриот», чей редактор одним из первых высказался за выдворение Гилсона из Нью-Джерусалема, напечатал некролог, более похожий на панегирик, а заодно указал читателям на недостойное поведение «Клариона» из Сквогалч, своей низкопробной лестью только оскорбившего добродетель покойного, который при жизни не удостаивал этот гнусный листок даже взгляда. Но все это ни в малой степени не охладило претендентов на состояние Гилсона. Пусть даже и громадное, оно в сопоставлении с числом желобов, из которых было, якобы, почерпнуто, казалось ничтожным. Ведь вся округа всколыхнулась!
Но и мистер Брентшоу не дремал. Деликатно воспользовавшись некоторыми из своих возможностей, он поспешил воззиждить над прахом благодетеля своего памятник, значительно превосходящий размерами и великолепием все надгробия местного кладбища. Кроме того, он сам сочинил эпитафию, которая прославляла честность, гражданскую доблесть и многие иные достоинства того, кто почил под нею, «став жертвой клеветников, племени ехиднина».
Потом он нанял для защиты доброго имени покойного наиболее талантливых из окрестных адвокатов, и они пять долгих лет отбивали во всех судах Западной территории наскоки претендентов на гилсоновы денежки. Против хитрых юридических закавык мистер Брентшоу городил закавыки похитрее. Если требовались платные услуги, он предлагал такие гонорары, которые разом повышали ставки на этом рынке. Когда ему случалось принимать у себя дома судей, гостеприимству его не было границ: и людей, и их лошадей обхаживали так, как нигде в округе. А против лжесвидетелей Брентшоу выдвигал прожженных клятвопреступников.
Сражения шли не только в капище Слепой Богини, но и в газетах, в приватных домах и церквях, на рынке, на бирже и в школе, на приисках и на всех перекрестках. И наконец склонился к закату последний день пятилетнего срока, отошли в прошлое все претензии по завещанию Гилсона, и ночь опустилась над краем, в котором нравственность приказала долго жить, общественное сознание померкло и даже сам разум ослаб, затуманился и съежился. Зато мистер Брентшоу праздновал победу.
Совпало так, что именно этой ночью ту часть кладбища, где обретались останки незабвенного Милтона Гилсона, эсквайра, затопили воды речушки Кэт-крик, вздувшейся от долгих ливней. Бурля, она вышла из берегов, унесла с собой землю, которую когда-либо копали, а потом отхлынула, будто устыдясь святотатства, оставив глубокие промоины, в которых открылось многое из того, что до той поры благочестиво скрывалось от глаз людских. Даже гордость Маммон-хилла – роскошный памятник Гилсону, уже не высился немым порицанием «племени ехиднину»; вода повалила его, а заодно открыла полуистлевший сосновый гроб, который убожеством своим являл полную противоположность монументу, лежавшему тут же и напоминающему огромный восклицательный знак.
Вот на это-то поле скорби и пришел мистер Брентшоу. Точнее сказать, его привела сюда некая таинственная сила, которую он не мог ни определить, ни обороть. За эти годы он буквально стал другим человеком. За пять лет неустанных трудов и неотступных забот он заметно поседел и ссутулился, черты лица заострились, а походка стала шаткой и семенящей. Столь же сокрушительно подействовала многолетняя борьба на его душу и разум: добродушие, некогда подвигнувшее его взять на себя дела по наследству Гилсона, сменилось меланхолией, глубокой и неотступной. Ум его, пять лет назад живой и острый, разъело чем-то вроде старческого маразма. Интересы, некогда весьма широкие, сфокусировались на единственной цели, а место былого свободомыслия заняла беспокойная и тревожащая вера в сверхъестественное – признак недалекого сумасшествия. В сознании его, зыбком и колеблющемся, намертво укоренилась лишь одна идея: несокрушимая уверенность в праведности покойного Гилсона. Слишком часто он присягал в этом, слишком часто клялся, как в суде, так и в приватных беседах, слишком много заплатил свидетелям и лжесвидетелям – как раз в этот день последний доллар из наследства достался мистеру Бентли, последним защищавшему доброе имя Гилсона, – что это стало для него самого истиной в последней инстанции. Догмой, аксиомой аксиом, островком правды в океане лжи.
Когда Брентшоу сидел в задумчивости, пытаясь в неверном лунном свете прочесть на поверженном монументе эпитафию, которую пять лет назад сам сочинил не без улыбки на устах, (о которой он, кстати, напрочь позабыл), его глаза вдруг увлажнились – он вспомнил, что это его навет привел к смерти достойнейшего из людей. Ведь мистер Харпер, движимый то ли страстью к истине, то ли каким-то иным, позабытым уже побуждением, присягнул перед судом, что в деле с гнедой кобылой покойный действовал по его прямому, хотя и тайному указанию, каковую тайну и сохранил до последнего, не пожалев самой своей жизни. И вдруг все, что сам мистер Брентшоу сделал ради восстановления репутации своего благодетеля, показалось ему малым до ничтожности – ведь в основе всего лежала корысть.