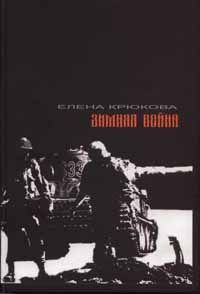Ледяные фигуры на затянутом плевой мороза окне дрогнули, приблизились; холодные белые иероглифы сложились в замысловатую вязь, проступили жизнью и страданьем.
Девушка тянет руку, приподымается на цыпочки: возьмите меня, ну, дяденька, возьмите же меня!.. Мне так надо… позарез надо…
Солдат за рулем кинул взгляд вбок, в стекло кабины. Застывшее громадное озеро в горах; лед крепко сковал его. Над озером стояло зимнее алое Солнце. Гольцы, острые, зубчатые, словно первобытные рубила, вонзались в дышащее жестоким морозом, дымное, с полосами серебристых облаков, яростное небо. Он притормозил, машина, крякнув и пыхнув выхлопами, замерла меж придорожных сугробов. Он прокрутил кабинное стекло вниз. Высунулся:
– Эй, куда надо?.. На станцию?.. К ледникам?..
Девушка уткнула нос в рукавичку. Ватник ее расстегнулся, и под ним блеснуло золотой ниткой дешевого люрекса нарядное платье. Богачка – на Войне?.. А может, актрисулька?..
– О, нет, солдатик!.. Ты что!.. это ж такая даль… Мне только до Ежовой Скалы, до КПП… в часть… Бери меня, давай жми быстрей, эх, ну я и опаздываю!.. концерт у меня!..
– А платьишко-то на тебе…
Он не договорил. Просвистело страшно, разорвалось, ухнуло. Он выпрыгнул стремглав из машины, обхватил ее, как медведь, дал подножку, повалил на снег, и они оба, обнявшись, покатились в ближнюю, сделанную прежним взрывом, яму. И, припав на дне засыпанной снегом ямины к выстывшей до сердца земле, прижавшись щеками к слежалым снежным комьям и ледяным остриям, они, задыхаясь, перебрасывались словечками, будто топтались беспечно на танцплощадке, и у него торчала сигарета в зубах, у нее – цветок во рту:
– Эй, кто ты?
– Я-то?.. Никто. Актриска я. Песенки пою солдатикам, езжу по воинским частям, мотаюсь по Войне, бойцам в госпиталях мурлыкаю любовные стишки. Они послушают меня… и не так тоскливо им будет валяться на казенных простынях, в лазарете… после операции, несчастненьким, бедненьким… многие – калеками так и останутся… кто и умирает… а умирающие мне тоже хлопают!.. да еще как… и «браво» кричат… я люблю, когда кричат «браво»… Они меня послушают – и, дружочек, от ненависти уже не сдохнут!..
– А ты сама – по имени-то – Любовь, что ли?.. раскалывайся уж…
– Я-то?.. Люсиль я.
Они обнялись крепче. Их звонкий смех взорвал мороз вокруг их лиц. Будто и не под обстрелом валялись они в грязной яме, а на солнечной полянке, среди цветов и ягод.
– Люсиль, ты это… знаешь что. Ножки у тебя замерзли?.. Ты… такая женщина!.. я уж и позабыл тут про таких… какое на тебе одеянье, ну тебя!.. в зобу дыханье сперло… мы ведь тут баб не видим, ты ж понимаешь, а ты спорхнула, как… как голубка…
– Ну, еще повтори: голубка…
– Да, голубка, голубка, обязательно – голубка… кто ж ты еще!..
Они пылко, радостно целуют друг друга на дне поганой ямы Зимней Войны, и полон веселья их долгий поцелуй.
– Так, Люсиль, значит, ты певунья… синичка ты певчая, так?..
– Не смейся надо мной!.. я техникум музыкальный окончила… здесь, в горах, еще до того, как Зимняя Война к нам вплотную придвинулась, а хотела поехать в Армагеддон, в Консерваторию поступать… мой учитель по вокалу говорил: у тебя – талант… он поставил мне голос… высокий у меня голос, колоратура… это, знаешь, такой голосок, он в небо улетает, звенит серебряным колокольчиком… а еще я успела побывать в тюрьме… на каторге… про это – не буду… это неинтересно совсем!.. а мой учитель со мной спал… он был мой первый мужчина…
Снова раздался противный длинный свист снаряда, грохот разрыва заложил обоим уши. Девушка на дне воронки легла всем телом на солдата, ворот ее ватника залез ему в рот, и она захохотала неудержно, дико, взахлеб:
– Страха не страшусь!.. Смерти не боюсь!.. Лягу за родную Русь!..
– Эй, потише!.. А вдруг враг – уже рядом?.. Да тебя и летчик в небе, в самолете, услышит – так звонко ты смеешься!.. так громко поешь… А из блатного репертуара ты умеешь?..
Она прижалась холодным носом к его небритой горячей щеке, пахнущей табаком и пихтовым маслом.
– Ты любишь хулиганские песенки?.. Я знаю их!.. Я спою тебе!.. Мы сейчас умрем… а перед смертью можно все-превсе… Господь Бог разрешает… я в тюрьме такого навидалась… и на Островах… меня ничем не запугать, ты знаешь?!.. я эту Войну поганую в гробу видала, я с…ь хотела на нее… Я знаю сто тюремных песен, солдатик!.. А частушек матерных!.. без счета…
Она легла на спину. Широкое белесое небо красным глазом пьяного морозного Солнца глядело на нее. Взрывы ухали уже поодаль. Вражеские зенитки лупили по горам, окружавшим озеро. Она заорала в голос, как бабенка в застолье, влившая в себя не одну рюмку сивухи:
– Х… й тебе, да вот те на —
Д-началась у нас Война!
Покажу врагу п…у
Да за Железную Звезду!
Они зашлись в хохоте уже оба, сплелись тесней, облапили друг друга, как два медвежонка – она в ватнике, он в солдатском тулупе, в гимнастерке, но все равно через одежды они чуяли неистовый жар друг друга, и свист снарядов венчал их, и звонкие колокольчики колоратурного смеха реяли над ними, как Ангелы.
А самолетный гул раздался в небе, и Черный Ангел, вестник гибели, пролетел над ними, прочертил светящееся небо черной полосой. Черный Ангел зачеркнул их прошлую жизнь и подвел жирную черную черту под будущей. А будет ли у них будущая жизнь? Они не знали. Они смеялись и целовались. Это было настоящее.
– ……………и утихли взрывы, умерли. И погрузились мы в мою машинешку дрянненькую. И тряслись у меня в железной моей повозке, за нашими спинами, замерзшие трупы наших солдат. И примчались мы в часть, и ринулась она узнавать про концерт, а командованье говорит – ошиблись вы, девушка, концерт у вас вовсе не в нашей части, а в другой, на передовой, а это катить к ледникам, я знал, где это, у черта на рогах, даль жуткая, все там под выстрелами, под прицелом, взрывы там не умолкают, а вот поди ж ты, солдатам шматок искусства откусить надо и сжевать, прежде чем его снаряд подорвет или он на мине сам жахнется. Песенки!.. Я видел, как она побледнела. С лица спала. Румянец рассосался тут же. «На передовой?.. – шепчет. – Так я ж оттуда живая… не вернусь… и везти меня туда некому…» И на командира умильно, умоляюще глядит. А я тут, рядом. Я сам ее на себя накликал. Сам у столба остановился, ее в машину взял. И она оказалась – Люсиль… голубка. Как бы я ее бросил?.. На Зимней Войне, знаешь, железное правило есть, вот какое: там никого бросать нельзя, иначе тебя самого кинут, Бог все сверху видит и сам тебя прибьет – чем угодно уберет: пулей, взрывом, током, огнем из огнемета, лейтенантишко дрянной либо майор, водки надравшийся, к тебе за чепуху придерется, угрозит револьвером, а оружье спьяну и выстрелит… – у смерти много причин и поводов, что на Войне, что в мире… а только нельзя на Войне никого бросать, нельзя предавать, плевать ни в кого на Войне нельзя. Это жестко. Это жестоко. Жесточе, чем в мире. Но это так. И перед дорогой… а далеко ехать было!.. да в холод лютый!.. мы решили передохнуть. Поспать немного. Я поутру выеду, лейтенант, сказал я начальнику, ты уж извини, спать очень хочется. Дай волю. Ночь ведь… Снова ночь. Звезды на небеса повысыпали. Разноцветный, лучистый, злой, огромный Сириус взошел. Боже, сколько на земле ночей!.. одна громадная северная, лютая ночь стоит, полярная ночь, и в ней – чуть-чуть Сиянья, чуток, как ягод в лукошке, бедных звезд в зените. Сверкнут, закатятся – и опять непроглядная тьма… чернота. И нас услали в кладовку на пропускной пункт. У нас лампы не было, только сальная свечка. Я свечку зажег. Вижу – кучи, груды грязного солдатского защитного тряпья, все разбросано по полу, собрано в тряпичные копны… вот на этом солдатском хэбэ мы и должны были спать, и спать вдвоем, а холодина Адская, пар изо рта клубится, как у коней из зубов, как от горячей картошки на рынке, и я шепчу, и вместо шепота – дрожь из горла излетает: Люсиль, голубка, ты же вся замерзла, у тебя замерзли ножки, у тебя замерзли ручки, пойдем-ка в машину, там хоть и бензином воняет, а все теплей…