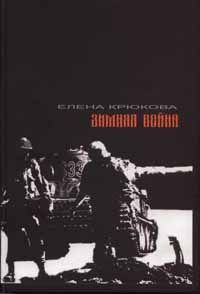……………а было утро, и я повез ее в мой тарахтелке в штрафную роту, на огненный рубеж, там был объявлен ее бешеный концерт, и вся передовая загудела: певица прибыла!.. певица!.. – заморская птица!.. – и быстро соорудили дощатую сцену, и прямо на морозе, на самодельной открытой пулям и ветрам эстраде весело пела она, а бравые бойцы сидели на земле, на корточках, ватниках и кургузых тулупах, и сосали самокрутки и цигарки, и зубы их дымились табаком, паром, смешками, и сыпали они, как из рога изобилия, соленые шутки в адрес певички – и так они ее, и растак, и в Бога душу мать!.. и ноги-то у нее кривые да корявые, и задрать бы ей подол повыше, и платьишко-то на ней с чужого плеча, а сама она – тощая свеча, – да нет, ребята, она же звезда, а мы ее и туда, и сюда!.. и рассюда!.. – и я слушал все их ругачки, и уши у меня деревенели, и сам я желал стать деревянным, железным, но я оставался живой и с ушами, и вынужден был слушать и хохотать – эх, до чего нищий наш мужчинский язык, хоть бы другие словечки выдумали, так нет, сто веков все одно и то же!.. – а Люсиль моя, будто кто поджег ее изнутри, подпалил бикфордовым шнуром – как безумная, как умалишенная!.. – и пела, и вопила, и визжала, и плясала, и на ушах и на бровях стояла, и шпагат на досках делала, и ножки ее разъезжались в разные стороны, и я вскакивал и орал, думал, что она себе там какую-нибудь жилку важную разорвет, – и штучки разные отмачивала, и вдруг прошлась колесом, как акробатка – я обалдел, я обомлел, я просто умер на месте, упал, я за живот держался, я охрип от смеха и начал икать – ну просто как сумасшедшая!.. вся металась и вспыхивала она, и блистала, и брызгала дикими огнями…
– Понятно. Ты втрескался в нее, это понятно. Я люблю сейчас ее не меньше твоего, твою зачуханную певичку с передовой. А вот ты… ты… знаешь, кто я такая?..
– Зачем мне знать?.. Все равно я завтра…
– Я – Первый Парфюмер мира. После Паломы Пикассо. Но Паломы больше нет, и я одна осталась. Помаду с губ моих ты съел давно?.. Я сама ее сделала. И все бабы мира, как дуры, охотятся за моими помадами, лаками и тенями для век. Я страшно богатый человек. Понимаешь?.. Я все могу купить. Все. Но мне ничего не надо. Ни дворцов… ни бабских бирюлек. Ни тарелок икры. Ни заморских пляжей. Понимаешь ты?!.. Да ты все понимаешь. Поэтому с тобой – страшно. И хорошо. Ты такой странный. Я думала, ты вор, из тюрьмы. А ты – вон откуда пришел. Откуда ниспал ты. Ты странный. Ты утром умрешь, ведь мы играем в Клеопатру, не забудь, – а говоришь мне сейчас о другой женщине.
Смутно были видны в белесом разливающемся молоке зимнего рассвета их ночные лица, руки, голые плечи. Она взяла его лицо в ладони, как теплый хлеб.
– Я тебе буду и о других женщинах говорить тоже. У нас ведь на самом деле очень мало времени.
– Ты что!.. Еще темно. Вон еще сколько звезд. И мороз будь здоров.
– Времени мало! Времени! Ты хоть это поняла?!
Она отшатнулась от натиска крика.
– Как не понять. Поняла.
Разорваны объятья. Она поднялась с широкой кровати, устланной жесткими шкурами старых волков и мягкими – голубых песцов, взяла со стола бутылку, налила в пустой стакан темно-красное питье.
– Попробуй. Мое, домашнее. Бабкин рецепт. Старуха крымская, мать отца… А матери своей я не помню. Я вообще детства не помню. Я себя помню… поздно уже. У меня что-то было с детской памятью. Выпаденье… черная дыра, воронка от взрыва… А отец мой был мне не отец… а мне потом сказали – отчим… но я его все равно отцом звала. Он служил во французском воздушном флоте. Его самолет загорелся. Он погиб в горящем самолете. В небе. И я тоже боюсь огня. Боюсь сгореть. А вот все живу и живу. Юродствую. Может, мне зачтется. А хотя бы и нет. Сумасшедшие летят по свету. Как голуби. У нас, знаешь, в Париже много родни. Они меня все считают за свою. Хоть во мне и ни капли французской крови. Лечу, пою, танцую… как твоя голубка. Улетела?..
– Снарядом убило ее. Тогда же, прямо на той заиндевелой дощатой фронтовой сцене. Я и ахнуть не успел.
– Видишь!.. – Она цапнула со стола сигарету и закурила, и дым вольно вился над голой шеей. – Господь ее прибрал. Он отнял ее у тебя. Чтоб ты не возгордился.
– Чтобы я сам не бросил ее.
– Верно! Она бы этого не пережила.
– А ты?..
– А я – тебя переживу.
– Верно.
Он поцеловал ее. Пробормотал над ее лицом: «Спи, спи». Молчанье обнимало их. Рассвет сочился в высокие старые окна. В беспощадном свете холодного утра он увидел тонкие морщинки под глазами спящей женщины и осторожно, жалобно потрогал их кончиками изрезанных, в шишках и шрамах, пальцев.
– Ну, вы, клячи!.. в две шеренги стройсь!.. Шапки на башки быстро надеть!.. ежели хоть одна из вас с кашлем кровавым в лазарет загремит – все пятью сутками штрафных работ ответят!.. На работу – живо!.. шагом… арш!..
Шевелящаяся живая копна вздрогнула. Бабы, спящие в алтаре вповалку, стали собираться на лесоповал. Заспанные лица глазами-щелками, опухшими, в синяках от бессонья, тупо глядели в холодный мир. Зубы, изъеденные цынгой, чернели в жалких улыбках, посылаемых друг другу. Ободрись, подруга. Все не так плохо. Мы живы. А лучше собачья жизнь, чем собачья смерть. Собака живет, брехает, грызет кость. И нас так научают. Обучат ли?!
– Пошли, Глашенька!..
– Да уж иду, иду, Стася… Даже оправиться не дадут, сволочи… Приседай где хочешь в лесу… за стволами… Гонят, как коров…
– А Люська?.. где Люська!.. Она же тут рядом со мной дрыхла, я ее еще надзирательским тулупом накрыла… Федька сегодня раздобрился, мне подсунул, а я – ей… Куда она подевалась, чумная?!..
– Спряталась… может – захворала… животом…
– Не мытые мы тут сто лет… не купаные… во вшах… пахнем, как гнилые рыбы… когда баню устроят?!..
– Да никогда… жди Второго Пришествия, Клавдичка…
Священник, в дырявой потрепанной, в заплатах, рясе появился в изодранных собачьими когтями дверях храма-барака. Черную бороду его вздымал, трепал ветер, дующий с воли вперемешку с колючим снежным пшеном.
– Сестры милые!.. – крикнул он задушенно с порога. – Нынче великий праздник, большой!.. Сретенье Господне… Мария с Иосифом Младенца принесли в храм к старцу Симеону, и старец Бога живого узнал, на руки взял… У кого из вас младенцы есть – благословите их, и я их во Сретенье сам благословляю!..
– У Стаськи младенец!.. У Стаськи!..
Стася сидела в углу с грудной девчонкой на руках, исподлобья глядела, совала в рот девочке тряпичный кисет с нажеванным ржаным хлебом.
– Когда родила?.. Когда у дитяти именины?..
Девушка молчала. Девочка сосала крестьянскую соску. Женщины, кряхтя, чертыхаясь, плача, поминая Господа, творя шепотом Исусову молитву, матюгая начальников, повязывая теплые платки, нахлобучивая ушанки, собирались в лес, на работу. Воздух внутри храма наливался светом, тьма забивалась в углы, сворачивалась под камнями змеей. В распахнутую дверь летел жесткий снег, белыми зернами набивался в щели меж каменных плит, ударял в полустертые, исчерканные похабными надписями фрески в апсидах и нишах.