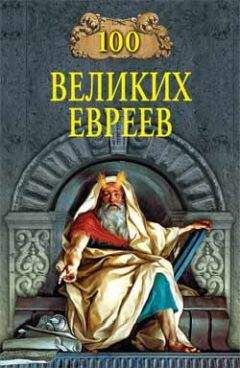Между тем Герш воспринял очередное замечание корчмаря на редкость серьезно. Он даже поднялся и некоторое время стоял, уткнувшись в окошко. После чего повернулся к Мойше и укоризненно покачал головой.
— Ты что, Сверчок, ослеп? — спросил он. — Вон же светится!
— Да что светится? — Мойше в сердцах шлепнул по стойке полотенцем. Больше всего он не любил встревать в споры с посетителями по пустякам. И ни разу не сумел удержаться. В результате порой доставалось ему и от посетителей-украинцев из соседней Долиновки, и от своих яворицких евреев. Но натура всегда брала свое. Он решительно оттолкнул Герша от окошка. — Ну? — спросил он, тоже всматриваясь в непроглядную темень. — Где светится? Где?
— Да вон же, ч-черт!! — заорал Герш. — Вон, возле старой синагоги. Ослеп ты, Сверчок, что ли?!
Поминание черта вкупе со старой синагогой на некоторое время лишило суеверного корчмаря дара речи. Когда же он вновь заговорил, то сказал лишь:
— Вон. А то я разбужу Ривку и пошлю ее за твоей Двойрой.
Герш хотел было возразить, но передумал, махнул рукой и вышел из корчмы. Мойше поспешно закрыл за ним дверь, громко стукнул засовом и с вполне понятным облегчением отправился спать.
— Гершке, дурак пьяный… — ворчал он вполголоса. — Разве ходит умный человек по ночам в одиночку? Известно, для кого любимое время начинается после полуночи… И ведь не выгонишь такого. Битюг здоровый…
— Для кого любимое время после полуночи? — сонным голосом спросила Ривка.
— А ты спи, — буркнул Мойше, укладываясь. — Для нечисти, конечно… — Он укрылся тонким одеялом — очень жаркой была нынешняя ночь. — Знахарка говорила: одного человека черт всегда увидит и обязательно сотворит ему какую-нибудь пакость. Если людей двое — черт их увидеть может, но навредить им не может никак… — Мойше зевнул, отвернулся от жены и промычал в подушку: — А вот троим бояться нечего: для нечисти они становятся невидимыми…
Он уже засыпал, когда Ривка вдруг пробормотала:
— То умный не пойдет ночью. А то — Гершке. Его и в одиночку никто не видит — кому он нужен, когда напьется… Как говорится, море по колено, река по щиколотку. Ничего с ним не случится, спи…
Между тем, сапожник Герш весело, хотя и нетвердо, топал по широкой накатанной дороге от корчмы к своему дому на окраине. Было ему хорошо и покойно, а что кружилась голова — так это лишь добавляло веселья. Он громко пел веселую песню о непутевом еврее Марко, самозабвенно выводил ее простую мелодию на манер плясовой, подбоченясь и притопывая ногами, обутыми в старые, но крепкие сапоги:
— Ах ты, дурень Марко,
Шо ж ты робиш сварку,
Нi купуєш, нi торгуєш,
Тiльки людей псуєш!
Eх, eх, не боюся нiкого,
Тiльки Бога одного!
Допев эту песню, он некоторое время плясал в полной тишине, а после вдруг запел новую, уже не такую веселую, но очень длинную:
Вiн побачив вiсiм старцiв,
Закривавлен вiтхий одяг,
На каменi свiток Тори,
Ще й тонка свiча…
Внезапно он замолчал. Дорога от корчмы как раз пересекалась здесь с тропой, ведущей к долиновской мельнице. Странное неприятное ощущение немного испортило Гершу настроение: ему почему-то пришло в голову, что впервые его старательное пение не вызывало у яворицких собак адекватной реакции. Ни сердитого лая, ни подвывания или повизгивания он за всю дорогу не услышал ни разу. А ведь обычно, стоило подвыпившему Гершу завести песню, как Яворицы оглашало радостное многоголосное тявканье, так что Двойра задолго до прихода мужа знала, в каком он состоянии. И готовила ему соответствующую встречу.
Сегодня же по всей округе царила странная, напряженно звенящая тишина. Герш сдвинул картуз на лоб и почесал в затылке. «Ну и ну, — подумал он ошарашено. — Хороши сторожа в Яворицах…» Он хмыкнул. Крикнул:
— Эй! Эй, дармоеды!
В ответ — ни звука. Герш нахмурился. Теперь он явственно заметил еще одну странность: за его возгласом не следовало эха. Он пожал плечами: чудно, право. Осторожно двинулся дальше — уже без всякого аккомпанемента.
Вновь Герш остановился и озадаченно осмотрелся по сторонам. Ни в одном из домов, с трудом угадываемых в темноте, не светились окна. Яворицы окутывала густая и глубокая темень. Сапожник на всякий случай посмотрел в другую сторону, за реку. Но и там, в украинской Долиновке, тоже все огни давно были погашены. Он задрал голову так, что картуз чуть не слетел с головы. Луны в небесах не было. «Да, — вспомнил он, — канун новомесячья. Новолуние, какая там луна…» Корчмарь сказал правду. Звезд тоже не было, небо затянулось низкими тяжелыми тучами. Герш помотал головой и глубоко вздохнул, пытаясь найти объяснение странному (с его точки зрения) поведению яворичан, улегшихся спать сегодня так рано и, похоже, завязавших дворовым собакам рты.
Горячий воздух обжег ему гортань. Он закашлялся: «Ну и духота…» — и вытер покрывшийся каплями пота лоб. От низких, невидимых, но угадываемых в темноте туч тянуло густой и жаркой сыростью. Гершу даже показалось, что кто-то обвернул его хмельную голову темным и душным одеялом. Он раза два глубоко вдохнул ставший вдруг вязким и плотным ночной воздух. Дышать было трудно. Что же до свежего ветерка, обдувавшего поначалу разгоряченного выпивкой Герша, то он стих, едва сапожник вышел из корчмы на улицу.
Герш попытался отыскать источник света, увиденного им из окошка. «Привиделось мне, что ли? — растерянно подумал он. — Смотрел — вроде светло было. А сейчас…» Тут он вспомнил, что давешний свет, как ему показалось, шел со стороны старой синагоги.
Герш впервые почувствовал себя неуютно. Даже хмель — несмотря на усиливающуюся жару — понемногу покидал его голову.
О старой синагоге, а вернее о ее развалинах, которые иной раз называли «авраамовыми каменьями», ходили разговоры тревожные и пугающие. Разрушили синагогу без малого два с половиной столетия назад — во времена «гзейрос тах»[3], как евреи называли пору ужасов хмельнитчины. Казаки гетмана в те дни прошлись по Украине будто настоящий огненный вихрь. Яворицы тоже не были обойдены их вниманием: местечко сожгли дотла. Старого раввина Элиягу бен-Авраама казаки гвоздями прибили к двери синагоги вниз головой. Еще восьмерых евреев — уважаемых членов общины — злодеи зарубили здесь же, у синагоги, рядом с умершим в муках раввином. Тело его попрятавшиеся в окрестных лесах яворичане сняли только через три дня, когда пьяное разбойное войско покинуло эти края, чтобы продолжить свой кровавый путь.
Яворицы после этого долго не могли оправиться. Когда же вновь задымили здесь печные трубы, то число дымов в первые полстолетия редко превышало двадцать пять-тридцать. Удивительно: место издавна считалось бойким (мимо пролегали целых два торговых пути), а мало кого привлекало. Почти никто не переселялся сюда — Яворицы долго хранили недобрую память о кровавых делах. А синагогу, ставшую местом мученичества рабби Элиягу бен-Авраама и восьми старцев, не отстроили. Так и стояли черные, покрытые мохом развалины, постепенно врастая в землю.