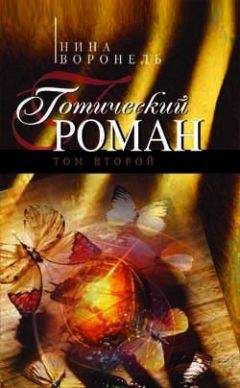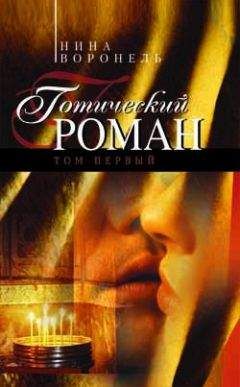Но в том-то и ужас, что я не могу ждать, не могу отложить нашу встречу. Не могу и все! Увы, я достигла того возраста, когда уже опасно полагаться на будущее. А вдруг ты передумаешь? А вдруг ты за это время встретишь другую – лучше и моложе меня? Таких ведь много, их гораздо больше, чем мне бы хотелось. Когда я о них думаю, я вообще не понимаю, что ты во мне нашел. При мысли о них я готова на все, только бы почувствовать твои руки на своих плечах, твое дыхание в ямочке на шее, куда ты так любил меня целовать.
Мне ничего не остается, как порвать это письмо, сжечь обрывки и написать тебе другое – трезвое, разумное, деловое, с точным адресом той библиотеки, в секретном архиве которой мне позволили работать.
Ну вот, еще одна ложь, не слишком, впрочем, большая – так, полуложь-полуправда. Ну и пусть ложь, так что? Ведь главное, решение принято! Теперь надо скорей написать, отправить и закрыть себе путь к отступлению. На душе у меня стало легко и спокойно, меня даже не тревожит мысль о том, что я разглашаю государственную тайну.
Письмо 19-е (отправленное)Что ж, чудно, миленький, чудно. Давай встретимся в Европе. В этом даже есть что-то романтическое – отели, опасности, музыка в ресторане.
С 7 июля я буду в Англии, в крошечном городке Дерривог в Северном Уэльсе неподалеку от Честера. Там все знают библиотеку-пансион. Ее называют так потому, что при ней есть некое подобие отеля, где приезжающим ученым сдают комнату с полным пансионом. Кстати, говорят, что там не слишком комфортабельно, зато довольно дорого – наверно, для компенсации. Но ты можешь поселиться в каком-нибудь не столь ученом пансионе по соседству, наверно, там дешевле.
Я прошу тебя ничем не выдать, что мы были до этого знакомы, так будет лучше и тебе, и мне. Я уверена, что у тамошних благочестивых стен есть не только уши, но и глаза.
До встречи, любимый, до встречи. Теперь у меня есть занятие на целый месяц – считать дни, часы, минуты и секунды.
Твоя К.
Самолет тряхнуло, и Ури открыл глаза. За овальным окошком скользили перистые облака, косо освещенные заходящим солнцем. Судя по положению солнца, самолет летел на запад, что совпадало с направлением на аэропорт назначения, указанный в билете. Ури прильнул к прохладному стеклу иллюминатора, стараясь разглядеть медленно кружащуюся под крылом землю. Где-то под ними сейчас должен промелькнуть замок Инге, но вряд ли удастся различить его среди темной зелени леса, подернутого прозрачной дымкой теплого летнего воздуха. Лес смотрелся с высоты, как скопление водорослей на дне океана. Океан этот был спокоен и недвижен, однако от чего-то забытого прескверно саднило под ложечкой, и нужно было срочно вспомнить, от чего. Ури поспешно перелистнул страницы предотлетных впечатлений и по тягостному толчку в сердце определил причину тревоги – мать!
«Сообщение о том, что представлять Израиль на этих секретных переговорах будет его мать, Ури преподнесли в последнюю минуту перед отлетом вместе с новеньким паспортом на имя гражданина Германской Федеративной Республики Ульриха Рунге. Раз в переговорах будет участвовать мать, значит, речь там будет идти о воде. А за проблемой воды скрывается, конечно, неоглядный мир политических интриг. Именно поэтому во время долгих предварительных бесед Ури и не сказали о предстоящей ему встрече с матерью, – чтобы он раньше времени не пришел к заключению о воде. И не успел проболтаться Инге.
Что ж, пожалуй, так оно и лучше. А то бы Инге обязательно у него это выпытала. Ведь она так убивалась, так убивалась, что он уезжает от нее неведомо насколько, неведомо куда. И конечно, рассказ о его возможной трогательной встрече с ничего не подозревающей мамочкой мог бы слегка ее утешить и отвлечь от фантазий о тех бесчисленных опасностях и соблазнах, которые поджидали его в разлуке с ней. Уж что-что, а выпытывать Инге умела! Стоило ему вернуться из университета с крошечным секретом на задворках сознания, она каким-то седьмым чувством этот секрет тут же распознавала и начинала его выуживать. Иногда Ури и сам не знал, в чем его секрет состоит, он просто маялся неким невнятным дискомфортом, но Инге всегда умудрялась отыскать занозу и извлечь ее из его душевного тайника.
По всей видимости, прежде, чем предложить Ури взяться за это дело, ребята из Шин Бета отлично разведали подробности его жизни с Инге и решили, что чем меньше он будет знать, тем лучше. И он до последнего дня ничего и не знал, кроме того, что задание ему предстоит тайное и большой государственной важности. Лично для него это был удобный вариант прохождения резервной службы на ближайшие три года вперед плюс вполне приличный дополнительный заработок, что, вообще-то говоря, было за пределами всех принятых норм прохождения резервной службы. Но, похоже, и задание было тоже за пределами всех принятых норм.
О том, что он летит в Лондон, ему сообщили тоже только при вручении паспорта, строго-настрого оговорив заранее, что Инге не поедет провожать его в аэропорт. Запрет проводить его почему-то особенно уязвил Инге, как будто поспешный поцелуй в многолюдной очереди перед паспортным контролем мог хоть как-то смягчить для нее горечь разлуки.
После недолгих, но бурных пререканий они сговорились, что она проводит его только до железнодорожной станции и даже не пойдет с ним на перрон, чтобы не узнать, на какой поезд он сядет. Это последнее требование было совершенно бессмысленным, ибо направление поезда легче легкого вычислялось из расписания, после чего станция назначения была очевидна. Сообщив ему эту нехитрую мысль на вокзальном пороге, который ей не было позволено переступить, Инге сделала неловкую попытку рассмеяться, но вместо смеха у нее из груди вырвался сдавленный всхлип и на глаза навернулись слезы.
– Ты что? – лицемерно удивился Ури. – Я же не на войну ухожу.
– Сама не знаю, – Инге прижалась щекой к его щеке. – Меня будто в сердце иглой кольнуло. А вдруг я тебя больше никогда не увижу?
На душе у Ури похолодело, но он храбро улыбнулся и с притворным легкомыслием погладил ее по заметно округлившемуся животу:
– При твоих притязаниях на ясновидение такие слова произносить запрещено.
Она перехватила его ладонь и прижала к какой-то точке живота, откуда до него докатился легкий, но вполне ощутимый толчок.
– Слышишь, как стучит? Он тоже не согласен, чтобы ты уезжал.
Ури знал, что Инге полна разных противоречивых страхов: она боится оставаться одна, боится, что Ури угрожает опасность, боится, что, вырвавшись на свободу, он к ней больше не вернется. Для всех этих страхов у нее не было никаких оснований, но это не меняло дела, поскольку страх ее был сильней разума. Единственной победой разума над страхом была ее решимость на память об их любви родить этого маленького внебрачного кентавра, полунемца-полуеврея, – страх подумать, как завопит его мать, когда узнает!