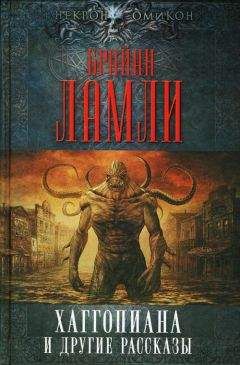Когда прошло действие обезболивающего и Мэтью проснулся, он сумел, несмотря на мучившую его боль, рассказать мне про свое новое сновидение. Ему снилось, будто он находится в каком-то туманном месте, где слышался лишь голос, постоянно повторявший фразу на чужом языке, который каким-то образом был ему понятен.
«Ты не должен с ними общаться, не должен их знать, не должен ходить среди них или рядом с ними…» — говорил голос, пугая Мэтью до глубины души.
Оставшуюся часть дня мы оба проспали, полностью обессилев, и я проснулся лишь ближе к вечеру, разбуженный криками Мэтью. Ему снился очередной кошмар, и я внимательно вслушивался, сидя рядом с его постелью, на случай, если он вдруг скажет нечто новое, способное пролить свет на случившееся с ним. Возможно, разбуди я его тогда, я бы спас его разум, но сейчас я рад, что не стал ничего делать, просто сидел и слушал его бормотание во сне. Мне казалось, что лучше, если он будет спать; какие бы сны ему ни снились, вряд ли они могли оказаться хуже, чем реальность.
Меня потряс до глубины души ядовитый запах, исходивший от его беспокойно вздрагивавшего тела, ибо всего несколько часов назад я полностью очистил его от любых следов ужасной болезни. Я надеялся, что мое хирургическое вмешательство остановит ее быстрое распространение, но, судя по запаху, было ясно, что все мои усилия тщетны. Затем, прямо на моих глазах. Мэтью начал корчиться и безумно бормотать.
— Нет, нет, — выдохнул он, — я этого не вынесу, я словно сам был частью того места, весь покрытый слизью… нет! — Грудь его судорожно вздымалась и опускалась. Затем он продолжил, уже спокойнее: — Никто не должен узнать о той яме… Я согрешил… совершил отвратительную мерзость… и вскоре должен ответить на зов… Никаких священников, никаких обрядов… Мертв еще до динозавров… И никто не должен меня видеть… Слишком много любопытных, любителей тайн… Они расскажут всему миру… Одному богу известно… Не говори никому… Никто не должен знать… Величайший грех… Да поможет мне бог!
Последовала долгая пауза, и мне вдруг показалось, будто спящий Мэтью к чему-то прислушивается. Наконец, он заговорил снова:
— Но… голоса! Кто они? Я не знаю этих имен. Джон Джеймисон Хастэм… Джинт Риллсон… Фет Бандр? И другие — кто они? Ганхфл Деграмс? Сгисс-Твелл? Неблоцт? Унгл? Ух’анг?
Голос его стал еще тише, губы раздвинулись, обнажив зубы, выпукло натянулись жилы на шее. На лбу его проступил холодный пот, и негромкий стон перешел в хриплый шепот.
— Тот, слабый, угасающий голос! Кто это? Кто это?.. Кто ты, шепчущий? Твое имя кажется знакомым… Нет… нет! Тебя… не может… быть!
Неожиданно, хрипло выкрикнув какое-то слово — или имя, — он сел на постели, полностью проснувшись, и, широко раскрыв глаза, обвел невидящим взглядом комнату. Несколько мгновений я не мог понять, что происходит, но затем я увидел пену в уголках его рта, закатившиеся глаза и бессмысленную улыбку. Сев рядом, я обнял его, глядя, как он, всхлипывая, раскачивается туда-сюда, полностью лишившись рассудка.
Тогда я не понял, чье имя он выкрикнул, но теперь я понимаю все, а в особенности то, что в конце концов оказалось невыносимым для слишком измученного разума и тела моего племянника. То, что ему… приснилось?
Рассудок к Мэтью так и не вернулся, и с этого момента мне пришлось заботиться о нем, словно о новорожденном младенце; он неспособен был даже к простейшим осмысленным действиям. Однако мне кажется, что это лучшее, что могло случиться. Я мало чем мог ему помочь, как в физическом, так и в духовном смысле, и полностью отказался от мысли вызвать специалиста. Ни один врач на это бы не решился, пока оставался хоть малейший шанс, что болезнь заразна и может передаться другому человеку. Это, естественно, стало главной причиной, по которой я оставил практику. Я оставался наедине с Мэтью, и все, что мне оставалось — ждать и наблюдать за тем, какую форму примет развивающийся кошмар.
Что касается меня, то никаких симптомов болезни до сих пор не проявлялось, и после каждого общения с племянником я тщательно мылся. Правда, в последнее время у меня пропал аппетит (чего, как я теперь понимаю, вполне следовало ожидать), но я продолжал убеждать себя, что все мои страхи, вероятнее всего, носят чисто психологический характер.
На следующее утро, пока Мэтью спал, я ввел ему новую дозу обезболивающего и снял повязки.
К тому времени я уже почти привык к виду жуткой зеленой сетки, разраставшейся внутри ран, внутри самой его плоти, и увиденное лишь подтвердило мои ожидания. Запах, исходивший от обнаженных мест, был ужасен, и я понял, что все мои усилия, вероятно, лишь ухудшили состояние юноши. К середине дня стало ясно, что никакой надежды не осталось. Руки его прирастали к бокам, а бедра уже соединились; жуткая растительность столь быстро распространялась по его телу и внутри него, что я не сомневался — ему осталось день-два, не больше.
Не стану рассказывать о том, что происходило с Мэтью дальше. Достаточно сказать, что я начал добавлять в ванны, которые принимал все чаще, карболовую кислоту во все больших количествах, пока, наконец, вчера содержание кислоты в воде стало столь высоким, что у меня вздулись на ногах небольшие волдыри. Однако мне казалось, что мои усилия того стоят, поскольку даже после того как Мэтью ушел два дня назад в торфяники, тело мое оставалось чистым, хотя аппетит полностью отсутствовал. Я надеялся, почти молился о том, чтобы причины тому были чисто психологические, но снова надежды мои оказались напрасными.
Я вынужден был признать — я тоже заразился! Вскоре после того как я начал писать этот текст, вчера вечером, после возвращения с торфяников, я впервые заметил бесцветное чешуйчатое пятно на тыльной стороне моей руки…
Но, спеша скорее закончить, я опережаю события. Я должен вернуться на два дня назад, к тому вечеру, когда Мэтью исчез в тумане, ибо самое худшее мне еще предстоит рассказать.
IV
Полагая, что Мэтью осталось жить самое большее несколько часов, и желая быть рядом с ним на случай, если незадолго до смерти к нему вернется рассудок — как порой случалось, — я сидел возле его постели. Видимо, я заснул, поскольку меня разбудили лихорадочные содрогания полностью изменившегося существа рядом со мной. К тому времени в облике моего племянника уже не оставалось ничего человеческого, за исключением общих очертаний. Глаза его горели сквозь узкие щелочки в зеленой маске, в которую превратилось его лицо.
Полностью проснувшись, я увидел, как… существо — я с трудом мог думать о нем как о Мэтью — начало двигаться. Дрожа, оно медленно сгибалось в поясе, пока, наконец, не село прямо. Чудовищная голова медленно повернулась в мою сторону, а затем я услышал последние слова, которые произнес в своей жизни мой племянник: