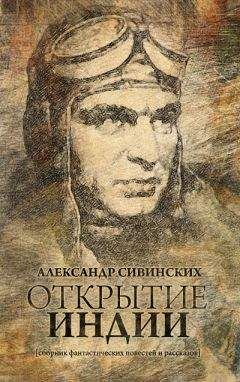Ну, что, травки они, вроде, помогли. Да только неладно. От них баловень-то ломом, а толку никакого. Неохота, ты понимаешь! Как не мой прибор. Лом и есть. Железяка. И – пустая. Сухостоина. Я, когда это понял, опять в амбар с верёвкой наладился. Только в этот раз даже не дошёл. Матушка с сеструхой, как выяснилось, наблюдение устроили. Опять рёв, опять слёзы. Мои, мои слёзы. Я, ты понимаешь, на слезу почему-то ёмкий. Что тогда, что сейчас. Особенно спьяну. Ладно, говорит мама, раз такое дело, пойду к Монку-старику. Он, если кому помочь решит, от всего вылечивает.
На другой день прямо с утра пошли они с сеструхой. Купили водки, как люди научили, да и двинулись. Пешком, транспорта-то не было. Ну, вернее, был у нас мотоцикл бати покойного, иж сорок девятый, но какие из них мотоциклисты? А мне самому почему-то нельзя было к старику. Такое условие. Монко этот жил не в нашем посёлке, а в черемисской деревне. Километров семь через гору. В основном по лугам, ну и лес само собой.
– Без дороги?
– Ну почему. Дорога была. Плохонькая, зато без такого вот безобразия, как тут у вас. Сколько уже стоим? Знатьё, так хрен бы поехал на такси. Тьфу. Ну вот, туда-то они быстро дошагали. Монко-старик по-доброму был настроен. В избу их пустил, накормил, всё выспросил. Поругался на полковника не по-русски, потом водку забрал и в горницу ушёл. Дверь закрыл плотно. У них, у черемисов – или кто он там был, может, мариец – в избах-то двери между комнатами, ты понял! Вернулся минут через десять, водку обратно отдаёт. А в ней что-то плавает. Не то комок волос, не то корешки. Выпоите, говорит, в пять дней, обязательно с парным молоком – и всё будет как надо. Отудобеет ваш парень, женится, внуков тебе, старая, нарожает. Только одно условие. Как домой пойдёте, назад не оглядывайтесь. Хоть там что будет, не оглядывайтесь. Оглянетесь – всё, пропало лекарство. Да и вы обе тоже пропадёте. Напугал так-то и выпроводил.
Идут они, значит, назад. Боятся. Где-то полпути прошли, слышат – за спиной как будто кто на лошадях едет. Да с колокольчиками. Гармошки играют, люди поют, орут как пьяные. То ли свадьба, то ли ещё что. Только почему-то одни мужики. И слов не понять. Матушка с сеструхой наказ помнят, не оборачиваются. А свадьба всё ближе, орут всё страшней. Как есть уже ссорятся, но гармошки не замолкают. Анна, сеструха-то, побелела навроде извёстки – и в вой. Говорит: ой, больше не могу, сердце заходится. Или обернуся щас или умру. Матушка, ни слова не говоря, – раз ей по рылу. Раз снова. А кулак у неё знаешь, какой? – больше моего. Сеструха чуть не повалилась от материнской ласки. И знаешь, сразу шум-то пропал. Они – бегом. Бежали-бежали, запыхались. Бабы, что с них взять. Только на шаг перешли, опять за спиной колокольчики, гармони, шум.
А там как раз к дороге лес близко подходит. Мама Анну хвать за руку, да в кусты. Забрались поглубже, схоронились под лесину вывороченную. Чего там натерпелись, не пересказать. Высидели сколько-то, прислушались – вроде тихо. Выбрались на дорогу, видят: идут двое, бабы. Догнали. Оказалось знакомые, поселковые старухи. По богородскую траву ходили на луга. Мама спрашивает, не знаете кто, дескать, проезжал на лошади с гармонью? А те: никого не видывали. Поблазнилось, бывает. До дому вместе дошли, ничего больше не слыхали.
Стали меня поить как велено. Я пью, а сам не верю. Что эти знахари могут такого, чего витамины не смогли, думаю. Только зря не верил. К концу недели на гулянку меня потянуло, ты понимаешь! К девкам. Взял баян и бегом; обрадовался, а как же! Месяца не прошло, Танюху встретил. Полюбил вроде, женился, дочь родилась, а Лидочку никак забыть не могу. Однажды в отпуске собрался тихомолком – и сюда. На аэродроме-то остались кое-кто знакомые.
– Заправщицы и медсестрички? – весело предположил таксист.
– Ага, точно говоришь. Порасспросил их. Рассказали, что полковник вскоре после моего досрочного дембеля перевёлся куда-то, едва ли не на Кубу. И семью с собой увёз. В общем, пропали следы. Так и жил. С Танюхой своей, с ребятишками, а мысли нет-нет, да и вернутся к Лидочке. Из-за того и пировал. Запойно. А в прошлом году получаю, ты понимаешь, письмо. Только увидел почерк, дыханье перехватило. От неё, от Лиды. Оказывается, она тоже меня не забывала. Только замужем была, верной, понимаешь ты, женой, поэтому и вестей не подавала. А тут муж её бросил, к какой-то шалаве молоденькой удрал, она и решилась написать. Адрес-то мой у неё остался. Хорошую жизнь прожила. Трое детей, две дочери и сын. Сын в деда пошёл, тоже военный лётчик-испытатель – и тоже здесь. Фотографию прислала. Сама всё такая же красавица, тоненькая как девчонка. И дочери красавицы. А сын… ну да, сейчас правильно подмигиваешь, вылитый я. Одно лицо. Я пишу: это что, мой? Лида отвечает: твой. Только он, говорит, этого не знает, а сообщать пока не решаюсь.
– А сейчас, видимо, решилась? – Таксист забросил в рот ядовито-оранжевую карамельку. – В гости едете?
– Хм… в гости… На похороны я. Погиб сын-то. Погиб.
– Как? На самолёте разбился?
– Да какой самолёт… – Пассажир осел в кресле, будто вмиг сделался тяжелей прежнего и быстро отвернулся к окну. – Рак у него был. Рак… Ты ушами-то не хлопай, шофёр. Зелёный загорелся. Трогай давай. Слышишь, нам уж сигналят.
4. Назад в подвалы
(сочинения прошлого тысячелетия)
1
На свет он появился недоношенным, с гипоксией, анемией и чёрт знает, чем ещё, поэтому удивительны ли постоянно и жутко мучившие его головные боли? Мать его, слезливая ограниченная клуша, залетевшая по пьянке, и не соблюдавшая в течение беременности диету, была главной причиной, и он возненавидел её. Заодно он возненавидел весь прочий мир, безразличный к его мучениям.
Мир не заметил его ненависти.
Он взрослел. Голова, однако, болела по-прежнему. Он стал искать избавления. Сам.
Наука была почти бессильна, и он бросился в океан околонаучной, псевдонаучной и антинаучной литературы, нетрадиционных методов оздоровления и традиционного пьянства. Боли усилились. Он занялся йогой, у-шу и бодибилдингом; он медитировал и принимал ЛСД; вызывал демонов и практиковал аутотреннинг. Боли стали невыносимыми. Он дополнил ЛСД стероидами и поливитаминами. Он стал вегетарианцем. Раз в неделю он проходил олимпийскую дистанцию триатлона только на минеральной воде и предельной концентрации воли. Он довёл тело и органы чувств до совершенства: видел в темноте и слышал в тишине, длинными пальцами с одинаковой лёгкостью гнул гвозди и гравировал на рисовых зёрнах, мог не дышать совсем и дышать в привокзальных туалетах. И это наконец случилось! Он научился править болью. Он обратил её в наслаждение…
Ему было тридцать три, и он решил, что постиг Истину. Он понёс её в массы: ездил по провинциальным городишкам под именами Святого Анохоретия, гуру Самоматхи, о-сенсея Фудзимоси или ламы Лобызанга Драмбы. Он проповедовал, лечил и наставлял. Он изучил риторику, психологию, овладел гипнозом, и на его сеансы народ валил валом, устраивая побоища у билетных касс. Он был неподражаем: высокий поджарый атлет с лицом спятившего Арамиса. Длинные белоснежные кудри, порождение вертикальной «химии» и дорогой крем-краски; тонкие ухоженные усы с подвитыми вверх концами; острая эспаньолка; впалые щёки; и, как гимн безумию, – пылающие фанатизмом огромные бледно-голубые глаза.