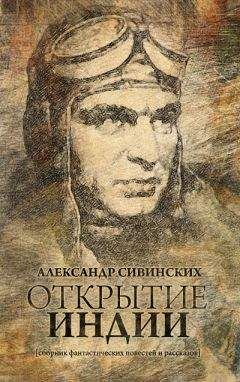Ему было тридцать три, и он решил, что постиг Истину. Он понёс её в массы: ездил по провинциальным городишкам под именами Святого Анохоретия, гуру Самоматхи, о-сенсея Фудзимоси или ламы Лобызанга Драмбы. Он проповедовал, лечил и наставлял. Он изучил риторику, психологию, овладел гипнозом, и на его сеансы народ валил валом, устраивая побоища у билетных касс. Он был неподражаем: высокий поджарый атлет с лицом спятившего Арамиса. Длинные белоснежные кудри, порождение вертикальной «химии» и дорогой крем-краски; тонкие ухоженные усы с подвитыми вверх концами; острая эспаньолка; впалые щёки; и, как гимн безумию, – пылающие фанатизмом огромные бледно-голубые глаза.
Ради него юные девицы готовы были расстаться с невинностью, престарелые эротоманки – со своими молодыми любовниками, а состоятельные мужчины с новенькими иномарками, юными девицами, любовниками и престарелыми эротоманками одним чохом. Надо ли говорить, что и те, и другие, и третьи готовы были расстаться ради него с собственной жизнью? Но с некоторых пор он охладел к их жертвенности. Его воспалённую душу томила другая жажда. Он горел одной страстью – убить меня…
2
Я бессмертен. Я тот, кому было сказано: «встань и иди», и я иду. Ещё тогда, две тысячи лет назад, пытаясь искупить вину, я крестился вместе с Павлом, но слово уже было сказано, и уже тогда оно не было воробьём.
Я иду, и время идёт. Я забыл, какая нация меня породила, она давно сгинула в глубинах истории вместе с религией, языком, именем. Но, поскольку «засветился» я в Иерусалиме, для всех я сами-понимаете-кто. ВЕЧНЫЙ. Я бы, наверное, и не возражал, если бы не погромы. Приходится маскироваться – все две тысячи лет: слушать возражения у погромщиков не принято. И я маскируюсь. Маскируюсь да мотаюсь по свету.
Сначала было трудней – мир был маловат. Расширялся он, чаще всего, неся новую веру дикарям, и я крестил Русь с греками и Америку с испанцами. Крещение… Не угасшая надежда на помилование.
Погромы следовали за мной. Подчас вместе со мной. Иногда их нес я. Аутодафе, очищающие индейских еретиков от скверны язычества, взметнулись к небесам, и я в ужасе бежал из Нового Света. И всё же… Их душный чад снился мне даже столетия спустя.
То была эпоха великих открытий, и я отправился закрашивать белые пятна на географических картах. Я начал простым матросом в экспедиции Магеллана и закончил – измученный конкуренцией, постоянной нехваткой средств и невозможностью увековечить своё имя – капитаном пиратской фелуки. Меня ждала веревка по обе стороны Атлантики. Я предпочел «утонуть» в разгар грандиозной многодневной пьянки на Тортуге.
Всплыл в Европе. Франция блистала. На двести пятьдесят лет я стал французом. Я пил, любил и воевал.
В ледяной Москве восемьсот двенадцатого мне вдруг люто опротивела война. Когда Наполеон двинул свои насморочные полки домой, я остался.
Я открыл для себя науки и искусства. Я хохотал с Пушкиным над черновиком «Гаврилиады» и рисовал возбуждённому предстоящей казнью Кибальчичу эскизы ракетных двигателей, памятные мне со времён странствий по Китаю. Я предложил Менделееву «довести до ума» водку, а Гоголю – подумать о любви малороссов к страшным историям. Я научил Павлова кормить собак вспышками электрических лампочек, а товарища Ульянова – кормить сказками пролетариат.
Пролетариат – не собака. Мне пришлось вспомнить старое увлечение ракетами, спешно рванув в Калугу, под бок к аполитичному Константину Эдуардовичу, когда сказку принялись делать былью.
В сороковые годы ХХ века, извлекши из глубин памяти милитаристские навыки прошлого, я записался в народное ополчение. Было не до шуток, горячо было и больно. Я вспомнил, что такое ненависть и забыл, что такое человеколюбие. Прикручивая медной проволокой Знамя Победы к скелету Рейхстага, я впервые узнал, что такое счастье.
Меня влекло небо, и я стал летать. Потом был апрель шестьдесят первого. Я сказал: «Поехали!» и взмахнул рукой. Трое суток я болтался на орбите, пока в ЦК спорили, может ли первый советский космонавт быть сами-знаете-кем? Американцы дышали в затылок и, на плохо подготовленной ракете, стартовал Юра. Я затаил злобу на перестраховщиков из ЦК и торопыг из НАСА. Сорвать её довелось не скоро, зато красиво.
Спускаемый модуль с серпом и молотом на боку и вашим покорным слугой внутри, прилунился ровно на полчаса раньше и на двадцать метров западнее, чем американский. Мне как раз хватило времени, чтобы водрузить над Луной алый стяг. Его алюминиевое полотнище украшало изображение срамного человеческого органа, любовно прорисованное в косоугольной изометрии. Что-то, возможно ярко выраженная индивидуальность, а возможно и потрясающие анатомические подробности, говорили о безусловном использовании художником натуры. За гораздо меньший натурализм лет шестьсот назад меня едва не спалили на костре. Я трудился над рисунком весь полёт, изведя всю зубную пасту, весь малиновый джем и измазав до неузнаваемости натуру. Всю.
Нерукотворный этот, поистине неземной шедевр символизировал моё отношение к американской лунной программе, во-первых; и той глупости, в которую вылились мои заблуждения конца прошлого века, опрометчиво подаренные товарищу Главному Мечтателю, во-вторых. Или наоборот. Счет не принципиален.
Бедняга Нейл Армстронг! У него было туго с чувством юмора, и он потом чего только не молол о первых лунных впечатлениях…
Скандал насилу замяли колёсами «Луноходов», а меня, за надругательство над святыней, по сто семнадцатой статье УК отправили в зону вечной мерзлоты, добывать стратегическое сырьё. Я оттрубил до упора, и – не сдох. Даже волосы не выпали.
«Откинувшись», тем не менее, решил отдохнуть. В глуши, на Урале. Женился, устроился дворником со служебной квартирой. Покой нам только снится: начальник ЖЭУ оказался зоологическим юдофобом и стремился выжать из претворённого в жизнь самого короткого анекдота максимум смешного. Вдобавок жена, стойкий фанатик бега трусцой, владела замашками бытового тирана, фараона наших дней: «И в могилу – со мной!»
Я бегал трусцой с метлой наперевес.
Потом пришёл черёд «новому мышлению». Оставив жену вместе с квартирой, я двинулся сквозь проломы в железном занавесе смотреть на дивный новый мир. Возвращался, конечно, иногда. Ностальгия какая-то появилась, да и «заначки» основные в России были оставлены.
Возле одной из ухоронок он меня и поджидал. Спросить его, как он вышел на меня, я не успел…
3
Легендарные подземелья Невьянской башни в самом деле полны демидовского золота. Только пробраться к нему не всякому дано. Я думал, только мне. Я ещё не знал о нём и его жажде.