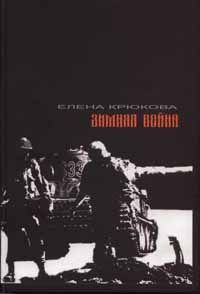– Люди, родные люди!.. Послушайте-ка, а!.. Я долго шел. Я натрудил стопы. Издалека пришел я – ой, как издалека-то!.. отсюдова не видно. Все, что в котомку заховал с родины милой для долгого странствия, давно уж подчистую съел и выпил. Из Галилеи я, из Галилеи!.. – слыхали?.. – село это такое, сельцо под Ярославлем… Господи, а уж красиво-то сельцо!.. В лечебницу попал по дороге… забрали меня… так долгонько там пытали меня… иглами кололи, били цепями… а после в цепи заковали – и на Острова… Дак вить из Галилеи я!.. не умею по-вашему, по-армагеддонски-то, балакать… Гривенник мне подайте, али двугривенный… я и водички тут попью, и булочку куплю. Жажда замучила… глотка сохнет… мне в глотку-то там, на Островах, свинец горячий лили!.. я и то жив остался. Жажду… инда казнь это какая, што ли?.. Подайте, граждане армагеддонцы и гости Столицы!.. век поминать вас буду…
Две проститутки, черная и белая, обе в сетчатых колготках – в мороз, с фонарями кричащих нарумяненных щек, с гребнями взбитых грив надо лбами, скривили губки:
– У нас и такой-то деньги отродясь не бывало в карманах, ты, наркоман грязный. Вот если б ты десять долларов попросил – куда ни шло.
– На… и проваливай!.. Разносят заразу…
Воспителла крепко сжала руку Леха, и их сжатые руки покрестил снег, отвесно летящий с небес.
– Лех. А может, это Он.
– Может.
– Так вот Он придет, и Его никто не узнает. Никто.
– Нет. Узнают. Он же придет в силе и славе, с громом и молнией. В торжестве. Как и было Им предсказано.
– Ты такой верующий?!..
– Я всю Войну носил крестик. Все сраженья. Я и сейчас его ношу. Я русский, Воспителла. И на тебе крестик тоже. Как у тебя язык повернулся спросить. Пусть я грешник. Пусть я убил. Пусть я еще убью. Но я же покаюсь.
Он сильней, больней, жесточе сжал ее руку и закричал на всю улицу:
– Покаюсь! Покаюсь!
Резкий ужас. Резкий, как болевой удар, запрещенный, нечестный, под ребро, под дых – в честном бою. Это снова память. Опять – вспомнить. Никуда от нее не деться. Опять на кого-то до ужаса похож этот спятивший старик из-под Ярославля. На кого?!
НА ТОГО, В ПУСТОЙ КОМНАТЕ, МЕРТВЕЦА.
Все мы на кого-то похожи. А верней – друг на друга. Нас отдельных – нет. Мы выдумали себе отдельности. Чтобы удобней было любить, жениться, расходиться, рожать, оплакивать, сражаться, ревновать, убивать, сжигать прах. Все мы были друг другом. Все мы будем друг другом. Я буду этим стариком из Галилеи. Убитая на Войне Люсиль уже стала моей Воспителлой. Воспителла поет песни Люсиль. Носит ее, с блесткой, платье. А еще?! Еще кто там стал моей Воспителлой?! Я же приказывал себе – вспомни!
Твоя маленькая жена Женевьева?!
Или та… таксистка… извозчица… в Париже… та, с брошенными на руль машины руками, с острым взглядом хорошенькой лиски из-под косо срезанной челки, та, отлично, отчетливо говорящая по-русски казацкая оторва, наставлявшая на него револьвер… стрелявшая в него… не промахнувшаяся… не…
Батюшка благословил меня. Он благословил меня на ночь. Он дал мне хлеб утешенья.
Как воют собаки. Они вынимают из тела душу. Это не собаки. Это волки. Они воют, подняв морды к Луне. Я засыпаю, сплю, и ко мне приходит старик в золотом шлеме. Он смертельно похож на Отца. Он шепчет мне в ухо: меня зовут Святой Николай, я воин, я солдат, я умру за тебя, доченька. Я сражусь за тебя, и мне все равно, победа или пораженье ждет меня. Ведь все это – за тебя и во имя тебя. Спасибо, батюшка. Ты меня благословил. Дай, милостивый Бог, мне срок, и я благословлю тебя тоже.
Человек в золотом шлеме сел рядом с ней, близко, стащил с головы шлем, и она, сквозь налетающий сон, ворочаясь на жестком дощатом настиле, еле укрытом тюремной дурно пахнущей ветошью, увидала: лысина, медная, загорелая, должно быть, на летних рыбалках, через все темя – грубо заросший страшный шрам от сабельного, наотмашь, удара, в ухе блестит золотая серьга, глаза прижмурены, косят, будто слепые, и щека светится изнутри, как светится желтый лимон или тусклая лампа, всеми золотыми морщинами, всей дубовой корой старой, изрытой временем кожи, и скула лоснится – то ли от жира, от масла, что смазал с куска хлеба, пока ел, жадно и голодно глотая, то ли от протекшей одинокой слезы. Кто ты? Я твой Отец, доченька. Зачем ты пришел?.. Я пришел к тебе. Я пришел сказать тебе, что я солдат Зимней Войны, и что я хочу победить, даже если победы никогда не будет. Я буду биться во имя твое.
Это я буду биться во имя твое!..
Она поднялась на локте, расширив глаза. Бабы спали. Сопели, храпели. В долбленой колоде спала девочка. В мерзлой земле почивала, истлевала ее мертвая мать. Отец!.. Ты же умер!.. Тебя же убили… Ничего я не умер. Он, живой, сидел, ссутулившись, рядом с ней, на полу, вытаскивал из кармана солдатской шинели самокрутку, раскуривал вонючий, крепкий самосад. Ты призрак!.. ты – отец Иакинф… Ну что ты мелешь, дочка. Иакинф поджарый и черноглазый. И щеки у него ввалились. И он горит и пылает истово. И он пророк. А я просто солдат. Я просто солдат и бывший моряк, и на флоте, на кораблях, мне прокололи матросы мочку раскаленной иголкой и вставили золотую серьгу, как пирату. Серьга приносит мужчине удачу в бою на Войне. Доченька, твой образок всегда у меня на груди.
А ты помнишь мою Мать, Отец?!
Как не помнить. Помню. И люблю.
Он затянулся жадно и тоскливо, и его вдох не кончался, он втягивал в себя весь горький, нищий воздух посеченной снегами земли. Отец, как я устала мучиться на Островах! Возьми меня к себе, на небо. Дурочка, я ж не на небе, а на земле. Брось рассказывать мне сказки, Отец. Я уже большая. Я знаю, что ты на небе. А я – на земле. И ты оттуда, с неба, все видишь и знаешь, что со мной еще на земле случится. А я ничего не знаю. Ничего! Так скажи мне! Скажи! Открой!
Все и случится. Слышишь, воют собаки? Слышишь, воет и плачет черный Блэк?!.. Это новых людей ведут гуртом на расстрел, на побережье, ко рвам. Собаки, бегите. Перегрызайте веревки. Подкапывайте лапами, когтями снег и землю под тюремными конурами. Бегите на волю. Бегите хоть вы, если люди не могут.
Я убегу, Отец! Я – собака! Я выкопаю яму… подкоп… когтями, ногтями…
Я вижу, как тает твоя самокрутка. Закури еще. Кури. Мне сладко нюхать твой дым. Не уходи. На тебе нет короны. На тебе нет твоей любимой военной фуражки. У тебя на коленях лежит, как ребенок, твой золотой шлем. Кто тебе его выковал из чистого золота?! Ты просто солдат. Не говори мне о моем будущем. Я не хочу его знать. Может, его не будет. Я помню, как играл в короне синий камень ясными огнями. Как Мать улыбалась тебе и мне. Она шептала: как ты похожа на Отца.
Вскочить с настила. Отбросить тряпки. Все спят! Где ты?!
Собаки воют за стеной Распятского храма. Это Голгофа. Сухие звуки выстрелов слышны издалека. Будто кастаньеты. Смерть танцует танец. А вот истошный визг, вой. И снова выстрелы. Это начальник каторжных войск всех Островов одноглазый Дегтярев стреляет в собак. И вой! И визг! И крик, собачий крик! А люди молчат. Раненые собаки разбегаются, уползают, прячутся, спасают шкуру свою. Люди около рва, на берегу ледяного моря, никуда не бегут, падают под пулями молча, закрывая кровоточащими телами белое тело Матери, земли. Отец, я найду синий камень. Я отыщу синее небо. Я надену мою корону. Я улыбнусь тебе. Я обниму за волчью шею черного Блэка. И мы оба, я и собака, пойдем по снегу, и наши следы станут похожи, как черные звезды, и мы прожжем в снегах письмена, и по тем письменам прочитают, как сильно я тебя любила, мой Отец, солдат Войны, Царь мира, бедный муж несчастной Матери моей.