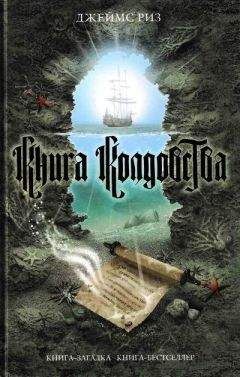— Это юбка… — пробормотала я смущенно. — Мне следовало надеть брюки.
Каликсто с улыбкой перемахнул через борт и уселся на скамью на носу шлюпки, спиной к морю, в то время как моя скамья была обращена к берегу. В ногах у нас лежал запасенный провиант. Я посмотрела на Каликсто и — хотя он отвернулся, опустив голову, — заметила отсвет улыбки в его синих глазах. Тогда я предложила:
— Знаешь, я могу сесть на весла.
Я считала, что смогу грести. У меня создалось впечатление, будто ничего трудного в этом нет.
— Спасибо, — ответил Каликсто. — Однако лучше ты мне почитай.
Так я и поступила: взяла книгу Себастьяны и стала читать вслух, в то время как сам Каликсто взялся за весла. Так что увидеть, как берега Кубы скрываются из виду, мне, увы, не удалось.
Подруга дорогая, для родов
Ужасное тебе досталось ложе:
Ни света, ни огня. Тебя забыли
Враждебные стихии.
У. Шекспир. Перикл (Перевод П. Козлова)
Bien sûr,[179] прибытие Себастьяны и ее спутников на Кубу было куда более помпезным, чем наше с Каликсто отбытие, что неудивительно — денег у моей мистической сестры было побольше, чем у самого царя Мидаса (и магических приемов тоже).
Они явились в Гавану за несколько месяцев до меня, а к тому времени, когда я наконец добралась туда, уже уплыли обратно. Увы, вместо того, чтобы найти в городе Себастьяну и узнать, какой сюрприз она мне готовит, я встретила Квевердо Бру.
Они, все четверо, да еще крыска на веревочке — «et quelle drôle de familie»,[180] как писала Себастьяна, — прожили в Риме еще неделю, в течение которой, по выражению Асмодея, «портили этих сорванцов». Затем компания направилась на юг Италии, в Неаполь, чтобы сесть там на корабль, отплывающий в Америку.
Задержка была вызвана еще одним обстоятельством: Себастьяна хотела отыскать мать найденных «детишек». По клятвенным заверениям Лео, она умерла несколько месяцев назад, «когда все дороги были рыжими». Это значило, что смерть наступила весной или летом, однако дальнейшие расспросы не привели ни к чему: то ли она и вправду ничего не знала, то ли ничего не хотела говорить, Себастьяна так и не выяснила. Вот что моя мистическая сестра писала об этом:
«Снова и снова я спрашиваю, могла ли ее мать делать то, что умеем мы, то есть показывать в глазу жабью лапку. Девочка утверждает, что нет, не могла. Так значит, она не была ведьмой? Или ничего не знала о своей истинной природе? Я до сих пор так и не получила подтверждения своим подозрениям. Ты, наверное, уже сама это поняла.
Я пыталась выведать у Леопольдины, отчего умерла ее мать. Если смерть той женщины наступила от крови, это был невероятно жестокий вопрос — я это понимаю и никогда не задала бы его Люку. Но юная ведьма отнеслась к моим словам спокойно, как к чему-то само собой разумеющемуся, и ответила мне пантомимой (поскольку плохо говорила по-французски) — изобразила жуткий, неотвязный кашель. Ага, подумала я, значит, все же пришел ее День крови. Но когда я, извинившись за свою настойчивость, принялась расспрашивать подробно, откашливала ли мать нечто красное, бедная ведьмочка спокойно покачала головой и проговорила:
— Ты имеешь в виду кровь? Нет, ее не было.
По всей видимости, мать девочки свел в могилу кашель, et c'était tout.[181] Но если мать этих детей не была ведьмой, откуда у Леопольдины ее ведьминская натура? Никогда мне еще не доводилось читать или слышать о чем-либо подобном. Чтобы ведьма родилась от обычной женщины? Просто невероятно, что ее мать оказалась простой смертной. Признаюсь, я была готова предположить все, что угодно, даже то, что близнецы родились не совсем обычным образом. Quoi,[182] спросите вы? Может быть, своего рода „непорочное зачатие“ наоборот? Или они появились в недрах земли как эдакие „плоды природы“?»
Кто-то другой, не столь обходительный, как Себастьяна, мог бы употребить слово «уродцы».
«Но кто же был их отцом? Куда он подевался? Однако и этот вопрос вызвал лишь недоуменное пожатие худеньких плечиков, поскольку близнецы не знали своего второго родителя.
Случалось им ли бывать во Франции? Леопольдина сказала, что нет. Люк в ответ на заданный по-французски вопрос спросил: „А что такое Франция?“
Если бедняжки действительно никогда не жили во Франции, как могло получиться, что они умеют говорить на языке этой страны? Лео объяснила, что они всегда говорили на двух языках — на одном с мамой, а на другом со всеми остальными. Кто были эти „остальные“? Была ли у детей семья? Мне казалось маловероятным, что у них действительно есть семья, которую мы смогли бы отыскать, как нашли в глубоких катакомбах под церковью Сан-Себастьяно самих умирающих от голода деток, почти похороненных заживо. И все-таки мне казалось, что нужно тщательно разузнать обо всем, прежде чем увезти близнецов из города во Францию или еще куда-нибудь. Если у них где-то остались родственники, которым известно про несчастья близнецов и про их пещерную жизнь, достойную разве что троглодитов, я быстро заставила бы их ответить за страдания детей сполна. Лучше им держать ответ передо мной, чем перед Асмодеем — тот не замечал Леопольдину, зато успел сильно привязаться к Люку».
Все вопросы об отце близнецов оставались без ответа. Никаких сведений о семье тоже получить не удалось. Однако дня через четыре после того, как детишки были счастливо извлечены из недр земли, Леопольдина предложила «экскурсию». Люк не хотел никуда идти, плакал, кричал и упирался — очевидно, поездка была связана для него с чем-то чрезвычайно неприятным. Он утешился лишь в обществе крыски, которая уже стала (по словам А.) «больше правой ягодицы мадам Дю Барри».[183] Без сомнения, он не преувеличивал, ибо Себастьяна писала, что все четыре дня были посвящены исключительно сну и еде. Она позволила близнецам — и крыске, которой Люк так и не удосужился дать имя, — ничего не делать и объедаться, причем в высшей степени неумеренно, что вызывало у детей приступы «недомогания», во время коих все съеденное «извергалось обратно», по словам Себастьяны. Я могла себе представить эту мешанину всевозможных яств, поглощаемых «детишками»; однако со временем, когда «щеки питомцев порозовели, а кости тщедушных тел перестали слишком выступать», Себастьяна ввела для них жесткую диету. Когда девочка поправилась, стало заметно, что она сложена раза в два крепче брата. Тот — «le pauvre, si perdu, avec son rat bien aimé», то есть бедный найденыш со своею любимой крыской — казался отростком более слабой ветви, нежели сестра; из катакомб он вышел хромым. Искалечил мальчика, по словам Леопольдины, безвестный кучер: он ударом кнута сбил Люка под колеса кареты, когда тот вскочил на подножку, чтобы попросить милостыню. Из-за этой хромоты Асмодей назвал Люка Байроном, или лордом Б. Ему казалось забавным то, что между парнишкой и покойным поэтом, прославившимся своим распутством, не было ничего общего, кроме хромоты.