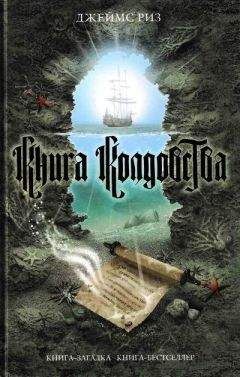Enfin, в том плавании хорошо было только одно: оно быстро закончилось. Тем не менее я успела обучить Каликсто французскому глаголу «vomir»[185] и была такой прилежной наставницей, что ради успешного запоминания этого слова трижды наглядно продемонстрировала ученику, что оно значит. К счастью, стесняться было нечего: юноша знал обо мне достаточно и если до сих пор не отверг меня, то вряд ли решил бы это сделать из-за приступа морской болезни.
Главная проблема состояла в том, что буря мешала мне читать: чернила в книге Себастьяны расплывались и стекали со страниц от морских брызг, а мои синие очки были так залиты водой, что через них ничего нельзя было разглядеть. Мне оставалось мучиться неизвестностью, терзаться беспокойством и бояться того, что лежало в основе уже прочитанного. Ибо чем дальше я читала, тем яснее мне становилась истинная подоплека случившегося. Это знание словно «прорастало» во мне, отчего у меня еще сильнее сводило живот.
«Да, я знала ее имя, милая Аш, и тебе оно также более чем известно.
Леопольдина. Знаешь, дорогая Аш, эта девочка очень рослая: в свои десять, точнее, почти одиннадцать лет она ростом мне по грудь. Так вот, Лео вела меня через кладбище, шагая прямо по могилам, а не обходя их, как сделал бы человек набожный или хотя бы богобоязненный. Но ей не просто чужды предрассудки — ей все нипочем. Кое-где могилы выглядели свежими, их явно использовали по второму разу, а остальные пребывали в запустении. Мы шли все дальше, пробирались через ряды кладбищенских изваяний, так что я чувствовала себя вовлеченной в некую странную шахматную партию с необычайно большими фигурами, среди которых сама я числилась пешкой. Девочка беспрестанно показывала свой глаз, и я предположила, что усилие, потребное для этого, помогало бедняжке не расплакаться. Видишь ли, Аш, я по-женски полагала, что все дети любят своих матерей, а после их смерти горюют, оплакивая кончину самого близкого существа.
Накануне ночью погода в Риме сильно переменилась, словно зима уступила место весне. Когда мы выехали за город и покатили по Аппиевой дороге, я увидела, что все окрестные холмы зазеленели, но это лишь сделало более яркими воспоминания о том, какими серыми они были в прошлый раз. Постройки из плоского кирпича-плинфы, каменные сооружения, гробницы, далекие башни, городские стены — все сияло на солнце, словно в строительный раствор было подмешано золото. Воздух оставался чистым, прозрачным и холодным, но солнце пригревало сильнее, чем в первый наш приезд сюда. Будь эта поездка менее важной, я могла бы остановиться, взойти на каменистый холм и подставить солнцу обнаженные плечи, чтобы почувствовать тепло, которого мне так не хватало в течение всей долгой зимы. Холод, милая Аш, пронизывает меня до костей. Наверное, это старость.
Внезапно Леопольдина остановилась. Если бы девочка просто стояла, опустив глаза в землю, как люди часто делают на кладбищах, я бы поняла, что мы дошли до нужного места. Однако она подняла голову и уставилась в небо. Кто-нибудь более сентиментальный сказал бы, что дитя „заглядывало в небеса“, но вскоре стало ясно: мысли Лео были устремлены не в рай, а в ад.
Потом Леопольдина снова обратила жабий глаз к земле и уставилась на бугорок под ногами, похожий на задранный кверху подбородок. Его покрывали бурьян и побуревшая прошлогодняя трава. И тут случилось то, чего я никак не ожидала: высвободив из-под юбки ножку в только что купленной туфельке, Лео с размаху пнула пяткой камень, стоявший в изголовье могилы. Удар сопровождался глухим стуком и, как ни странно, отозвался на другом конце кладбища: там лопата могильщика, войдя в землю, так же ударилась обо что-то. Пораженная этим, я с изумлением смотрела на юную ведьмочку, наступившую обеими ногами на могилу. Девочка находилась как раз над грудью усопшей, так что непременно наступила бы на нее, не будь та отделена от ее каблучков шестью футами земли да несколькими досками гроба. А самым страшным показалось мне то, что Леопольдина у меня на глазах наклонилась и плюнула на погост. Да, плюнула!
Я была потрясена, но не успела выразить это. Я посмотрела на то место, куда упал плевок девочки, и прочла имя той, кому было суждено стать твоим проклятием. Это оказалась она, предавшая тебя десять лет назад, — Перонетта Годильон».
Конечно же, это имя поразило меня, когда я впервые прочла его в доме Бру, однако в тот момент его воздействие не было настолько «телесным» и физиологическим. А сейчас, в лодке, едва я прочитала его, все мое нутро сжалось и я ощутила новый позыв рвоты. О, как хотелось мне извергнуть в море все воспоминания о том дне! Изрыгнуть, выплюнуть и смотреть, как волны разгоняют мокрую слизь, пока она окончательно не растворится, не разойдется в воде грязным осадком и не исчезнет.
— Аш! — окликнул меня Каликсто. — Как ты себя чувствуешь?
Еще до того, как я излила за борт свою печаль, вторично опорожнив желудок, мой друг выпрямился, поднял голову и посмотрел в мою сторону, хотя по-прежнему продолжал держать руку на румпеле. Мы плыли под парусом по более спокойным водам пролива, и ветер, хотя и не слишком сильный, увлекал нас все дальше и дальше. Кэл уверил меня, что самое опасное позади, нужно только держаться подальше от длинных скелетов разбитых о рифы судов, указывавших направление к острову Индиан-Ки.
— Аш! — опять окликнул меня Каликсто, который называл меня так же, как Себастьяна. — Как твои дела?
Увы, дела мои были плохи. Это может показаться невероятным, но я раз за разом перечитывала эту часть книги Себастьяны, не в силах понять, кем же была мать новой ведьмы. Я перебирала в уме все, что прочитала в бесчисленных «Книгах теней» во Враньем Доле и в доме Герцогини, пытаясь отыскать ответ в тех историях, но не находила его и снова задавала себе один и тот же прежний вопрос: кто же она, кто? Если мать детишек была смертной, как предположила Себастьяна, что это означало? Я никогда не встречала упоминаний о ведьмах, рожденных обычной смертною женщиной. Может, это была ведьма, неизвестная нашему сестричеству? Enfin, передо мной как будто лежали кусочки мозаики, и мне предстояло сложить их в единую картину. Но как же быстро решилась эта головоломка, стоило мне еще раз прочитать имя, записанное Себастьяной: Перонетта Годильон.
Я надолго выбросила из головы эту девушку; однако имена тех, кто впервые пробудил в нас любовь, западают в душу и впечатываются в наших сердцах, как тавро. Тем более когда первая любовь заканчивается так жестоко и страшно — хотя и Перонетте, и мне в тот раз удалось спастись бегством.
— Аш, — спросил Каликсто, — а кто такая эта Пери… как ее там?