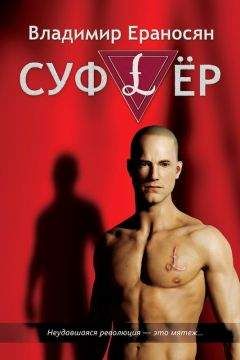В оконное стекло пугливо били капли дождя. На столе горела лампа, разделяя комнату на темную и светлые половины. Игорь сидел в тени.
– Куртку можешь не снимать. Так что, говоришь, тебе нужно?
Поймет ли она?… Да, ему нужно было нечто, он носил в себе ответ два года… И тот выпорхнул изо рта, как белоснежный голубь… с алым, алым клювиком.
– Ты, – произнес он и распахнул куртку.
Острые коготки разорвали свитер, молнией рванулись к ней – к обоим плечам, к шее, – чтобы впрыснуть в тонкие сосуды дурман. Ее веки, чуть начав изумленно приподниматься, упали. А через секунду и сама Мария обмякла на кровати, став еще прекраснее, – прелестью безвольной куклы.
Рыжий идол с тихим хлюпаньем втягивал коготки обратно. Игорь сорвал с себя остатки свитера и поднялся. Все тело горело, кровь двигалась жгучими волнами. Каждый нетвердый шаг к ней казался долгим сном, то кошмарным, то сладостным.
Он встал возле нее на колени. Протянул руку и коснулся ее щеки, странно холодной. Сказал:
– Я люблю тебя.
Она не отвечала – и не должна была. Молчал и он. Говорила лишь его необъятная любовь. Говорила на языке тайфунов и пожаров, языке, неподвластном людям, – таким, как он… и даже ангелам, как она.
Игорь расстегивал пуговицу за пуговицей на ее кофточке – с бережностью ювелира, едва касаясь. Иначе не выдержал бы… Он ласкал ладонью синюю ткань, словно это она, гладкая материя, столько месяцев не давала ему уснуть. Он склонял голову и вдыхал одуряющий запах, жалея, что не может раствориться в нем до полного небытия. Но он не стал затягивать игры – и раздвинул, как занавес, складки одежды.
Лифчика на ней не было… В Игоре что-то зашаталось и с шумом рухнуло. Он впился губами в белую грудь, осыпая ее поцелуями-маргаритками, теряя рассудок. Все понятия и образы: родители, Сутемь, люди, Бог – утонули в сатанинской страсти. Он жаждал всю ее вобрать в себя, соединиться навеки.
Он схватил ее за подбородок и приник к розовым губам, другой рукой разрывая на ней трусики. Он пил ее жадно, почти захлебываясь. У нее вкус вечности… вечности… крови.
Игорь в ужасе отпрянул.
С нежных уголков рта струилась кровь. Как киноварь по фарфору, она расплывалась все гуще и гуще, стекала по плавным линиям подбородка. Игорь поднес пальцы к глазам, не веря в этот яркий цвет… Что-то чавкнуло. Голова Марии дернулась, на губах лопнул алый пузырек. А потом ее челюсти разошлись и, словно распускающуюся розу, выпустили багровый коготь на суставчатой ножке.
У Новой церкви всегда безлюдно. Ее возвели посреди асфальтового поля, когда-то отведенного под площадь. Площадь должны были обрамить аккуратные дома, в которых жили и работали бы счастливые люди растущей Сутеми. Но ни домов, ни счастья это место так и не увидело. И на асфальте выросли скорбные стены храма.
По ночам зажигается подсветка. Лучи небольших прожекторов скользят по голубым стенам к чешуйчатым куполам, по крестам, выше которых нет уже ничего. Жители многоэтажек, мигающих окнами вдали, редко смотрят в эту сторону. И Новая грустит в ночной тьме, как одинокий Бог на краю вселенной.
Льет последний осенний дождь.
По асфальту перед церковью ползет человек. Вода льется с небес на его голую спину, смывая разводы крови. Сквозь кожу просвечивает рыжий огонек, будто плоть стала слюдой. Человек глухо мычит, временами поднимает голову, и в глазах отражается золото крестов.
…Он дополз до паперти и взбирается теперь по ступеням, как полураздавленная гусеница. Уткнувшись в храмовые двери, он протягивает руку, стучит. Но там, внутри, пусто и темно, и ему не открывают… Человек, хватаясь за дверную ручку, встает. Тонкие паучьи ножки свисают с его боков и колышутся в такт мерцанию чуть левее позвоночника.
Человек ударяет кулаком по медной табличке «СВЯТОСЕРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ». Еще раз. Еще. Он барабанит по двери, кричит и рыдает.
Рыжее пламя разгорается сильнее. Человек хватается за грудь, будто пытается что-то удержать… Из горла вырывается хрип, и с хлюпающим звуком сердце человека покидает грудную клетку…
По асфальту стучат коготки, потрескивают суставы. Тонкие ножки уносят горячий еще комок плоти куда-то во мрак. Скоро и звуки, и огонек теряются в дожде…
На церковном крыльце лежит ничком остывающий труп, и поднимать его некому.
Осень 2006
Темнота пахла червями. Он так и видел, как те буравят его спину крохотными красными глазками. Холодная влага сочилась из сжатых кулачков, словно из губки. Но он знал, что если будет стоять на месте, то темнота раскроет свою беззубую пасть и проглотит его. Тогда он сам станет червем и будет поджидать кого-нибудь живого и теплого.
Мальчик зажмурил глаза и снова открыл их. Разницы не было.
А наверху грохотал из комнаты в комнату отец, стонали под чудовищными сапогами доски. В этой буре ребенок не слышал для себя ни пощады, ни сожаления и потому брел сейчас на ощупь, боязливо переставляя ножки по невидимой земле. Если можно найти во мраке самый черный угол, он найдет его и будет сидеть там, пока раскаты над головой не утихнут и не заскрипит, принимая отцовское тело, кровать.
Мальчик привык ждать – пряника с ярмарки, отпертой калитки, улыбки матери. Вместо розового петушка маячил перед ним пунцовый нос отца, калитка оставалась на запоре, мать валялась на лежанке безразличной куклой – а он все ждал, потому что иначе не выдержал бы. Весь подвал был уставлен бочками, и мальчик двигался вдоль одного из рядов, пытаясь нащупать просвет достаточно широкий, чтобы можно было сквозь него протиснуться. Пальцы скользили по пухлым, склизким деревянным бокам; ребенка колотило от отвращения… но страх не давал ему остановиться.
В конце концов он нашел подходящее место. Но щель была узка, из нее веяло сыростью, и он колебался.
Заскрипели петли, и белесый свет пролился на земляной пол подвала. Ошалев от ужаса, мальчик мышью юркнул в мокрую скважину и прибился к стене.
В пятне на полу шевелилась усатым насекомым тень. Отец пророкотал несколько страшных слов; маленький беглец сидел не шевелясь. Сердце его стучало в такт подрагивающим хвостам червей.
Наконец хлопнула крышка, через минуту – дверь, и все закончилось. Отец ушел и унес с собой ярость.
Оцепенение спало, и спиной мальчик почувствовал холод кладки. Его начало трясти: в этих судорожных движениях слились воедино озноб и страх. Он бился между бочками, как рыба в садке, до крови ударяясь головой, – крошечный, ничтожный. А в стене росла трещина – будто раскрывалось каменное веко, один взгляд из-под которого способен убить.
Но для одинокого создания, что трепыхалось в своем нечаянном укрытии, не существовало ничего, кроме тьмы.