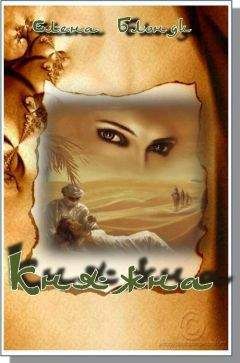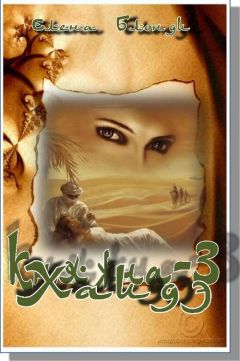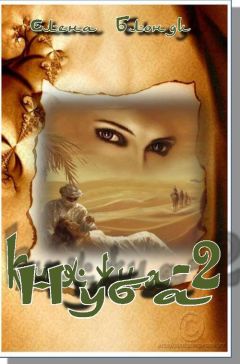Девочка захихикала, прижимая ко рту липкую руку.
— Ой, я сильно люблю его. А еще люблю орешки в меду, в коричневом, горячем. Ну, расскажи, Гайя.
Гайя положила мешок с шерстью. Ленивые черные фигуры проснулись и со всех сторон на нее смотрели крашеные темным огнем лица. Сверкали ждущие глаза. Женщина кивнула, вытягивая ноги, наклонилась вперед, маня рукой. И все послушно подползли ближе, чтоб не пропустить ни слова.
— Наша госпожа Хаидэ, да будет милостива к ней Афродита, да будет свет Аполлона всегда сиять ей в любой темноте, приехала в страшной повозке, запряженной парой степных коней с косматыми гривами. На ней было платье царского голубого льна, а шея, руки, пояс и волосы убраны золотом, и было его так много, что захоти господин сторговать себе за них новый корабль, то получил бы их два.
— Ах, — в голосе Мератос прошелестела зависть.
— Но золото — не все, что привезла с собой княжна. Десять всадников ехали вкруг повозки. Каждый подобен черной молнии: в одеждах, шнурованных тесно и подпоясанных туго; с горитом, полным жалящих стрел; с луком, похожим на радугу в полнеба. У стремени каждого было копье, из таких, на которых в бою храбрец насаживает сразу троих врагов и там они умирают, корчась и размахивая руками. А за поясом имели они топоры, с лезвием косым, как дикий глаз степного беса. Да они и были бесами, духами войны были они, потому что они — Зубы Дракона, самые хитрые, самые сильные и злые воины, которых можно найти в степи. И тот, кто нашел, умирает.
— Наш господин не умер! — ревность в голосе девочки вызвала усмешку на темном лице Гайи.
— Не умер, — согласилась она, — потому что наш господин благороден и смел, умен и расчетлив. Это приданое его юной жены скакало вслед за повозкой. Не он нашел их в степи, сам вождь Зубов подарил ему своих степных детей. А кроме непобедимости в битвах славны Зубы Дракона верностью своему племени и своим клятвам.
Она осмотрела слушателей. Все внимали, только Лой валялся на спине, глядя на звезды. Шарил рукой в надежде дотянуться до ноги Мератос.
— А красивая она была?
— Такая же, как сейчас.
— Но я выросла, я взрослая, а она что — не изменилась? Ведь время идет.
— Ее время не такое, как твое, девочка. Она живет в покоях, сладко спит и вкусно ест. Ее руки белы и не знают труда. А ноги никогда не ранятся о колючие камни. Ты станешь старухой, а она будет княгиней, до самого своего конца.
Мератос опустила голову, закручивая пальцами край платья, пробормотала:
— Подумаешь…
И подняла руку с блеснувшим на ней тяжелым браслетом:
— Видишь? Это подарил мне господин. Он сказал, что я…
— Что ты глупа? Вон твоя судьба, изюм да Лой. А подарки от знатных носи и не хвастай. Иначе твоя глупость убьет тебя. Что там шепчешь?
— Ничего, — Мератос водила рукой, любуясь браслетом.
Гайя, схватив ее за локоть, дернула к себе, и та почти упала головой ей на колени.
— Слушай меня, глупая утка, и не болтай своим дурным языком. Наш господин щедр на любовь и подарки. Тебе браслет, другой — бусы, а мальчику гостю — праздничное платье. Прими дареное, но не кичись им перед другими. Иначе повторится то, что случилось, когда ты еще пачкала свои детские одеяла.
— Пусти! — девочка вырвалась, вскочила. Пнула пяткой взвизгнувшего Лоя. Прошлепали по камню сердитые шаги.
— Ой, — сказала добрая, всех жалеющая Анатея, — убежала…
Гайя с усмешкой посмотрела на смутно белеющий угол дома, на нем нарисовалась кривая тень с вытянутым носом. Мератос, свернув, не ушла далеко, уселась под факелом.
— Первое утро новой жизни настало для молодой жены, а она уж велела остричь Милицу, обрезать ее прекрасные волосы…
Тень качнулась и вытянулась, чтоб расслышать тихие слова. Воздух стоял недвижно, поддерживаемый немолчным ририканьем сверчков, таким однообразным, будто и не было его.
— Милица была главная в доме. Лучше всех танцевала, пела, как пели сирены, и гости хозяина любили ее. А мы — нет. Очень горда была и без доброты. Утром прислали ее и меня к молодой жене, чтоб уложить ей волосы и умастить тело розовым маслом. Навести глаза и брови. Показать, как надевать украшения. Милица идти не хотела. Но она рабыня. А когда молодая хозяйка, не сумев открыть, уронила на пол драгоценный флакон и потекла из него золотая амбра, Милица сказала по-гречески, чтоб та не поняла.
— А что сказала, Гайя? — Анатея замерла, наклонившись вперед.
— Глупость сказала, злую глупость. Забыла, что она раба, а хозяйка — жена господина.
— И хозяйка услышала, да? Она уже знала язык и поняла?
— Не надо ей было знать языка. Она подобралась телом, ровно лиса на охоте, ровно хищная птица над воробьем. Только глаза блеснули лезвием топора. Она просто увидела лицо Милицы, когда та говорила. И тут же велела — голову брить и вышвырнуть из дома, навсегда.
— И хозяин послушался?
— Она пришла в его дом стать женой. И все мы с того дня стали и ее рабами тоже. Узнав, что приказала княгиня, он рассмеялся. Позвал к себе Милицу и велел ей скинуть покрывало. Гости лежали с вином и смотрели, как блестит ее большая голова, глупая голова. И тоже смеялись. Хозяин услал Милицу в рыбацкую деревню, в дальнюю, где квасят хамсу и делают из нее гирум. Вонь от него такая сильная, что когда посланные из той деревни приходят в полис, все зажимают носы. Так она и осталась там, чистить рыбу и заполнять ею деревянные бочки на жаре, среди мух. А тоже была вся в браслетах и кольцах, что дарили ей знатные.
Гайя посмотрела на замершую тень на белой стене.
— Ты поняла, глупая? Иди к нам.
Но тень, качнувшись, исчезла.
Мератос, отползя за угол подальше, встала, поправляя платье. Повертела на руке подаренный браслет, и, шепча злые слова, тихо ушла в большую женскую комнату, где у стены каменные загородки отделяли ее каморку. Кинувшись на постеленные овечьи шкуры, заплакала, вытирая злые слезы. И шмыгнув, прошептала:
— Ну и что. Подумаешь. Да я. Я вот…
Злость бродила в ней, беспомощно тыкаясь в углы, искала выхода и не находила его.
— Я все равно, что-нибудь…, - пообещала себе девочка, сворачиваясь клубком и засыпая.
Сон пришел, горячий и влажный: Мератос сидела на троне, в одеждах из золота, в зале, уставленном корзинами с изюмом и орехами. А княгиня, с морщинистым лицом и скрюченными руками ползала у ног, умоляя о милостях. Но Мератос ела изюм и смеялась. И Теренций, окруженный красивыми сильными мужчинами, которых привел ей, царице, кивал и тоже смеялся над своей старой ненужной женой.
Под смоковницей стояла тишина. Мужчины и женщины, притихнув, пытались услышать, что делается наверху, в женских покоях княгини. Говорить о ней после рассказа Гайи никто не решался. А та, снова подняв комок шерсти, тихонько загудела свою песню, трепля жаркие волокна.