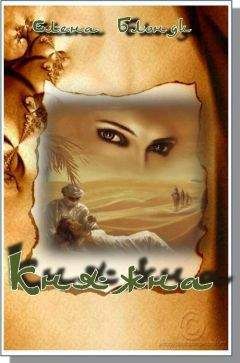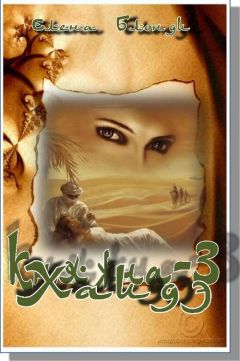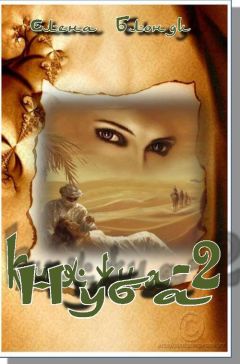— Подожди, ты, медведь!
— Ты чего? Ну!
Поворачивая голову, женщина прислушивалась к мерному и привычному стуку капель в стене, к шорохам ночных жуков и сопению спящих детей. Кивнула, тихо засмеявшись.
— Ага. Все уже. Иди, давай, сейчас будет тебе еще маленький Кос, ну-ну-ну…
И парень, заглядывая в блеснувшие глубиной глаза на некрасивом широком лице, вдруг испугался и захотел ее — так сильно, как раньше никогда, никого.
Ночь лежала, простершись, смотрела на всех укрытых собой, и темная глубина ее взгляда входила в сердца женщин, лежащих с мужчинами. А далеко-далеко, края ночи становились прозрачными, переходя в свет, истончались, держа одним краем вечернее прошлое, а другим — утреннее будущее. Между ними цвел день, в котором не было места вскрику ночной птицы.
В самой середине дня, у огромного бока бархана, насыпанного волнами красного песка, стояло дерево, черное и изогнутое, с жестяными листьями, гремящими на сухом ветру. Корни его змеями вылезали из песка далеко от ствола и, казалось, шевелились, но это ветер пересыпал, играя, песок. Черный великан, сидевший, закрыв глаза, у ствола, пряча лицо в тени скудной листвы, цветом был неотличим от ствола и пока сидел неподвижно, казался огромным наростом с блестящей корой. Вскрикнула в белом, кипящем от зноя небе невидимая птица, и великан открыл глаза, резко, так что пустынный суслик, вереща, подскочил и ввинтился в узкую нору, засыпанную потревоженным песком. Мужчина облизнул ярким языком толстые губы, глядя перед собой в пространство. Выслушал что-то, неслышимое пустыне и зашептал, еле шевеля потрескавшимися губами. Договорив до конца, приподнялся, вытащил из-за пояса короткой канги вытертый кожаный кисет. Развязав, бережно вынул сложенный кусок серой ткани и расстелил на коленях. Провел рукой по темному пятну. Увидев, как выцветают края пятна, цветом сравниваясь с серой тряпкой, снова зашептал, укоризненно, обращая к себе невнятные слова, ругая и уговаривая. И, не сумев уговорить, вскочил, сбивая макушкой сушеные листья с нависшей ветки. Заорал, перечисляя бранные слова с упреками, держа в руке скомканный лоскут, забегал по красному песку, тяжело выворачивая большие ступни, топая в бешенстве ногой, останавливаясь и падая на колени, стуча кулаком по шуршащим, уходящим из-под руки холмикам.
И, наконец, устав, вернулся к дереву, упал, садясь, прислонился спиной к стволу. Складывая лоскут, прижал к лицу, вытирая пот с острых скул, обтянутых глянцевой кожей. И снова упрятал его в кисет, на самое дно. Подобрал ноги, чтоб не палило солнце, и, закрыв глаза, стал ждать, когда ночь подаст ему мягкую руку и поведет за собой, в красные пески.
Что нужно женщине, чтобы родиться с темной глубиной в глазах, кто должен быть отцом, а кто матерью той, что приходит в мир — быть женщиной настоящей? Этого не знают ни колдуны, ни шаманы. Не знают и те, кто, загибая пальцы, мерно перечисляет летопись давних лет или пишет ее на ломких пергаменах или мягких папирусах. Такие женщины просто приходят в наш мир. Живут. Одни ходят по травам босыми ногами, окуная подолы в росу, и под ранним солнцем роса отливает багровым светом, будто кровь намочила тонкую ткань. Другие возлежат на богатых коврах, покачивая узкой ножкой, на пальцах которой — вышитый башмачок с загнутым носом, вот-вот упадет. Такая берет персик с чеканного блюда, надкусывает, вытирая сок, текущий по подбородку, и на цитре музыканта рвется струна. Иногда западный ветер приносит такую в дикое племя и мужчины бьются как звери, за взгляд или поцелуй.
Так сильны они, пришедшие без предсказаний, что, отчаявшись понять, кто, откуда и почему, люди нарекают их нечистыми, и чертят в воздухе и на песке охранные знаки. Но узкая нога, мягко ступив, разрушает заклятье, быстрые глаза, сверкнув, развеивают прошептанные слова. И те, кто боялся, с радостью склоняют головы, пленяясь.
А есть просто женщины, рожденные для продления рода и мерных повседневных дел, но вместо радости и благодарности за покой, они мечтают о темной силе, идут к старухам за тайными порошками и, шепча заговоры в урочный час, прислушиваются к своему телу, ожидая перемен. Но лишь кружат головы в сроки, отведенные для зачатий, не пленяя и не становясь легендой. Рожают детей, растят их, забыв о дуновении темноты, и лишь изредка вспоминают о мелькнувшей молодости, как о чем-то чужом.
А первые, темные, — до поры бегают босиком, едят зеленые сливы с дикого дерева, дерутся с мальчишками. Выходят замуж, и отдают мужчине девственную кровь, еще не зная своей силы. Но настает день. Или — ночь… Не обязательно первая, — главная.
Теренций лежал, закинув руки за голову, смотрел в потолок, туда, где вокруг черных отверстий для уходящего дыма пестрела роспись. Сердце бухало в груди, сотрясая ребра, на висках остывал пот. Он не поворачивал головы, но вся правая сторона лица и тела горели — вот она, лежит рядом. Отставленный локоть жгло так, что казалось, кожа сойдет, и Теренций мысленно одернул себя, уговаривая — это кажется только.
«Старый дурак»… Десять лет назад, разглядывая двоившееся перед глазами красное пятно на свадебном покрывале, решил, что сделал ее женщиной, и сразу забыл, мало ли их было, девственных и свежих.
«А сделал только сейчас вот…»
Она вздохнула, поворачиваясь, и он замер в ожидании, страстно желая, чтоб прижалась к боку, ткнулась носом в плечо. И по-юношески тут же проклял себя за это желание, когда, не дотронувшись, затихла, улегшись удобнее. Вспомнил, как поднималась ему навстречу, спуская с ложа светлую ногу и захотел ее снова, удивившись быстроте желания. Ведь почти только что отвалился, отрычав по-медвежьи, выкатывая глаза на перекошенном лице. И понял, повернуться, чтоб взять ее еще раз, по-хозяйски, не сможет. Не посмеет. Проводя рукой по широкой мокрой груди, раздумывал, рассердиться ли на себя. Или на нее? И, неожиданно для самого себя, проговорил, надеясь, что не заснула:
— Ты слышала? Купцы говорят, в метрополии смута. Может быть, к нам будут реже заходить суда… Подорожает одежда и драгоценности, амбра…
Напряг слух, по-прежнему не поворачиваясь. Спит?
— Я плохо разбираюсь в политике и торговле, Теренций. Но думаю, ты не упустишь своей выгоды.
— Нашей, Хаидэ. Ты хозяйка в этом доме.
Собственные слова, сказанные из вежливости, вдруг принесли удовольствие. Захотелось добавить еще, о том, что она — богата, и знатна. И дом какой… Его, нет, — их, общий дом.
— Я рада.
Он лежал, обдумывая. Ответная вежливость? Просто так, от скуки сказала? Не чает, когда он уберется в свою спальню? Скоро за окном проснутся первые птицы. Надо, и, правда, уйти…