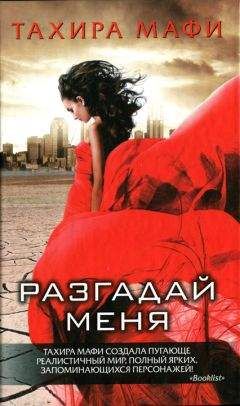— Нет, я не такой. — Его голос внезапно становится жестким и властным. — И я не собираюсь меняться. Я не в состоянии стереть все девятнадцать лет своего жалкого существования. И не могу забыть все то, что я успел сделать. Я не могу проснуться в одно прекрасное утро и решить жить отныне чужими надеждами и мечтами. И чьими-то обещаниями о светлом будущем. Я не собираюсь лгать тебе, — продолжает он. — Я никогда не думал о других, никогда не приносил себя в жертву и не шел на компромиссы. Я не хороший и не порядочный и не благопристойный и никогда таковым не стану. Не смогу стать. Потому что даже пытаться стать таким было бы для меня крайне дискомфортно. И совестно.
— Как ты можешь рассуждать подобным образом? — Мне хочется сильно встряхнуть его. — Как же можно стыдиться того, что ты стараешься стать лучше?
Но он меня не слушает. Он смеется.
— Ты можешь себе только представить меня таким? Вообрази, что я улыбаюсь детишкам и выдаю им подарки на день рождения. Или бегу помогать незнакомым людям. Или играю с соседской собакой.
— Да, — киваю я. — Могу.
«Я даже видела нечто подобное», — думаю я, но вслух этого не произношу.
— Нет.
— Почему нет? — не отступаю я. — Почему в это так трудно поверить?
— Такой стиль жизни для меня невозможен.
— Но почему?!
Уорнер сжимает и разжимает кулак, потом проводит пятерней по волосам.
— Потому что я это чувствую, — говорит он, но уже гораздо тише. — Я это всегда чувствовал.
— Что чувствовал? — шепотом произношу я.
— То, что люди думают обо мне.
— Что…
— Их чувства, их энергию… это… я и сам не знаю, что это такое, — признается он. Он расстроен, он отступает назад и трясет головой. — Я всегда мог это сказать. Я знаю, что все ненавидят меня. Я знаю, что мой отец совершенно не любит меня. Я знаю о сердечных страданиях своей матери. Я знаю и то, что ты не такая, как все остальные. — Он замолкает на некоторое время, но потом продолжает: — Я знаю, что ты говоришь правду, уверяя меня, что не испытываешь ко мне ненависти. Что ты хочешь ее испытывать, но не можешь. Потому что в твоем сердце нет враждебности ко мне, а если бы была, я бы сразу об этом узнал. Так же как я знаю, — говорит он хриплым от напряжения голосом, — что, когда мы целовались, ты что-то испытывала. Ты чувствовала то же самое, что и я, и тебе от этого становится стыдно.
Паника капает из меня из всех мест сразу, заливая все вокруг.
— Как ты можешь говорить, что знаешь обо всем этом? — спрашиваю я. — К-как это вообще можно знать?
— Никто не смотрел на меня так, как ты, — шепчет он. — Никто не разговаривал со мной так, как ты, Джульетта. Ты другая. Ты сильно отличаешься от остальных. Ты могла бы меня понять. Но остальному миру не нужно мое сочувствие. Им не нужны мои улыбки. Касл, пожалуй, единственный человек, являющийся исключением из этого правила, но его стремление доверять мне и принять меня к себе только показывает, как слабо это сопротивление. Никто здесь не знает, что он делает, и всех их в конце концов попросту убьют…
— Это неправда… это не может быть правдой…
— Послушай меня, — говорит Уорнер немного раздраженно. — Ты должна понять, что люди, которые что-то значат в этом уродливом мире, — это те, кто обладает реальной властью и силой. А у тебя есть сила. Причем такая, что может потрясти планету, ты можешь завоевать ее целиком. Может быть, пока что еще слишком рано, может быть, тебе еще требуется время, чтобы осознать свой собственный потенциал, но я готов ждать. Я всегда буду желать, чтобы ты оказалась на моей стороне. Потому что мы двое… мы двое… — Он замолкает. Похоже, ему не хватает дыхания. — Ты можешь себе это представить? — Он пристально смотрит мне в глаза, его брови сдвинуты. Он изучает меня. — Конечно, можешь, — шепотом добавляет он. — Ты постоянно думаешь об этом.
Я начинаю хватать ртом воздух.
— Тебе здесь не место, — говорит он. — Тебе не место среди этих людей. Они затянут тебя вместе с собой, и тогда тебя убьют…
— Но у меня нет другого выбора! — Я в негодовании, я возмущена. — Но я лучше останусь здесь с теми, кто хочет помогать, кто пытается сделать жизнь другой! Они по крайней мере не убивают невинных людей…
— Ты полагаешь, твоим друзьям не приходилось раньше убивать? — кричит Уорнер, указывая на дверь. — Ты думаешь, Кент не убил ни одного человека? И Кенджи не стрелял в грудь незнакомцу? Они были оба моими солдатами! И я своими собственными глазами все это видел!
— Они пытались выжить, — говорю я, стараясь отогнать ужасы, которые представляет мне мое воображение. — Они никогда не были верны Оздоровлению…
— Моя верность, — заявляет он, — тоже не принадлежит Оздоровлению. Я предпочитаю верить тем, кто знает, как нужно жить. В этой игре у меня имеются только два варианта, любовь моя. — Он тяжело дышит. — Убить. Или быть убитым.
— Нет, — говорю я и отступаю на шаг. Мне становится плохо. — Так не должно быть. Ты не должен так жить. Ты можешь уйти от отца, от той своей жизни. Ты не должен быть тем, каким он тебя хочет видеть…
— Слишком поздно. Необратимые повреждения уже были сделаны. Я уже смирился со своей судьбой.
— Нет… Уорнер…
— Я не прошу тебя волноваться за меня, — говорит он. — Я прекрасно знаю, как выглядит мое будущее, и меня это вполне устраивает. Я счастлив жить в одиночестве. Я не боюсь провести остаток жизни в компании с самим собой. Одиночества я не страшусь.
— Но ты не должен так жить, — говорю я. — Тебе не нужно оставаться одному.
— Я не останусь здесь, — говорит он. — И хочу, чтобы ты это знала. Я найду способ выбраться отсюда. Я покину это место сразу же, как только мне представится такая возможность. Мой отпуск, — убедительно произносит он, — официально подошел к концу.
Тик-так.
Касл вызвал нас на срочное совещание, чтобы проинструктировать по поводу завтрашнего сражения. До нашего выступления остается меньше двенадцати часов. Мы собрались в столовой, потому что именно здесь могут усесться сразу все.
Мы поели напоследок, потом натянуто побеседовали, вернее, обменялись друг с другом несколькими фразами. В общем, два часа прошли в напряженной обстановке с неуместными смешками и сдавленным кашлем. Со стороны это больше походило на собрание задыхающихся астматиков. Последними в столовую прошмыгнули Сара и Соня. Они обе сразу же заметили меня и приветственно помахали мне руками, прежде чем уселись на свои места в противоположной от меня стороне зала. Затем слово взял Касл.
Сражаться будут все.