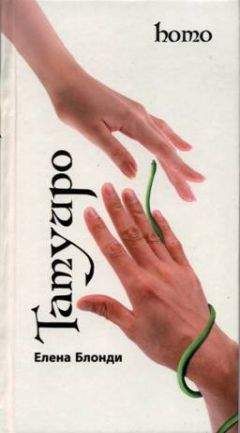— В нём очень страшно, Берита. Зачем он показал мне? Я уже думала — добрый.
— В нём зверь и в нём — человек. Он устал биться один. Он кричит о помощи. Ты любишь, ты помогай.
— Да не люблю я… — Найя устала возражать, — но почему раны? Черви эти цветные?
— Цветы таммы, которым не досталось крови, пьют её сами. Собирать ягоды в густых ветках нелегко. Он не оберёгся. И цветы его ранили.
— Чёртов ваш лес.
— Твоя любовь вылечит его.
— Мы будто по кругу ходим! Сколько мне говорить! Я его…
И замолчала, прерванная стуком в дверь. Берита лицом показала, надо окликнуть.
— Кто там? — сказала Найя и подавила смешок, представив себе обитую дерматином дверь со штампованной узорчатой ручкой.
— Да хранят боги ваш дом, красавица из морей, пустите соседку!
— Кора? — брови Бериты поползли вверх, она сплюнула на пол в досаде, растёрла слюну широкой ступней, — открой ей.
И отступила в чуланчик.
— Ах, красавица, ты уж прости, что я… Ночь за стенами, наверное, вы спите, а сон дождей сладок, для молодых, хотя Акут уж какой молодой, но зато ты у него — молодая жена, красивая…
Кора как встала посреди хижины, так и тараторила, не сходя с места, только поворачивалась и стреляла глазами, чтоб ничего не упустить. К тощей груди прижимала сверток, спелёнутый в широкие листья. Вымытые волосы блестели светом из очага, и звякали на шее бусы в несколько рядов, шелестели, поскрипывали.
— Мне нужен муж твой, красавица, дело у меня, работа для него. Не обижу. Ты давай разбуди его, пусть посмотрит. И пусть сделает побыстрее.
— Он болен.
— Ах! — Кора торопливо скроила жалостное лицо и снова затарахтела:
— Ну, не умирает же! А вам без работы не прожить, вы уж не брезгуйте. Он у тебя не охотник, что подадим, то и съест. Давай, красавица, буди.
Найя тяжело глянула на худую дёрганую фигуру Коры. Протянула руку:
— Давай работу.
Та смерила её глазами, но, подумав, заулыбалась.
— Молода ты работы такие делать. Это не битые ракушки на щит лепить, да будут Боги добры к нашему вождю. Моя вещь ценная, ни у кого такой нету. Только посмотреть если — посмотри. И — буди мужа.
Замолчав, стала разворачивать сверток. Подмокшие листья падали на пол.
— Вот, — Кора подошла к сидящей Найе и протянула шар. Из трещины на боку сочилась искристая жидкость, и ладонь женщины засверкала мелкими точками. Губы её задрожали.
— Это мой город, видишь, он ранен, его надо сделать, чтоб как новый.
— Это же! — Найя протянула руку. Кора отдёрнула было свою, но всхлипнула и вложила мокрый шар в её ладонь. В красном свете очага метнулись внутри шара искры, доплыли до поверхности сока, из которого уже выступали острые шпили городских башенок. Найя держала шар, смотрела, поворачивая.
— Это же игрушка! Откуда? Стекло. Ты знаешь, что это — стекло?
— Что за слово, не знаю такого слова, — Кора сплела мокрые пальцы и быстро прошептала охранные слова, — это город, мой. Я сама его нашла. А мастеру за него я отдам — вот это!
Наклонив голову, перебрала узелки на кожаном поясе, выдернула из-под юбки шнурок с висящим на нём кисетом. Достала из раскрытой горловины длинный блестящий предмет.
— О Господи… Да это же… Карандаш. Цанговый! — Найя беспомощно глянула в сторону чулана. Взяла из руки Коры гранёный стержень и надавила на кнопку. Карандаш послушно раскрыл маленькие челюсти, показывая обломок грифеля, спрятанный внутри.
— Видишь, какая вещь. Нет таких больше. Я отдам. Только пусть сделает мне город, мой.
В узком проеме показалась большая фигура Бериты. Уперев руки в широкие бока, она вышла на свет и смерила яростным взглядом растерянную Кору.
А из-за спины Найи послышался хриплый голос проснувшегося Акута:
— Найя… Пить…
Меру сидел на скамейке, потирая перевязанную лубом руку. Следил за тем, как жена ходила по хижине, подбирая разбросанные маленьким Мерути игрушки. Когда проходила близко, падал на лицо мужа её женский запах — трав, которыми мыла волосы, и рослого красивого тела. Уносила запах с собой, в дальний угол. А Меру опускал голову, чтоб не видно было, как раздуваются ноздри, ловя невидимые следы. Рука почти не болела. И от того сильнее болела душа. Ложась вечером с Онной в постель, он осторожно обнимал её здоровой рукой и боялся: услышит, как бухает его сердце. Старался лечь, не прижимаясь к ней животом и бёдрами. Раньше, до той охоты, подавался к ней, и Онна смеялась тихонько, чувствуя, как упирается в неё мужской корень. А теперь, вдыхая запах травы от её волос, тут же вспоминал, что пообещал тогда, на охоте, за свою жизнь. А рука почти не болит и, может быть, он тогда просто испугался? Как сопливый щенок, задрожал, стал вилять хвостом, чтоб перевилять страх. И пообещал зря? Вдруг лесной кот уже умирал и просто свалился бы сверху, раскинув лапы с длинными гнутыми когтями, а Меру вылез бы из-под него. А руку вылечил бы Тику, мало ли рук и ног ранят в лесу охотники племени…
Его красивая, умная жена ни разу не удивилась тому, что муж лежит бревном. Гладила по голове и плечам, осторожно проводила пальцами по больной руке и поворачивалась, чтобы заснуть. И тогда, следом за теми мыслями, всегда приходила другая, вползала болотным ужом в тростники. О том, что будет там, куда её заберут. О дочери Меру не думал влажными тёплыми ночами. Не успевал. Потому что, как только сворачивалась кольцом в голове эта мысль о том, что Онна будет там и больше он никогда не увидит её, не прижмёт к своему животу спящую и не почувствует широкими ноздрями запах травы от волос, — входила в него тёмная мужская сила. И Меру разворачивал к себе жену, притискивал здоровой рукой и брал. Брал так, как до того — никогда… После первой такой ночи, неловко двигая больной рукой, приладил на внутреннюю дверь ещё одну циновку — поплотнее, чтобы спящие в маленькой комнате дети не слышали, как стонет их мать и как он сам рычит, захлебываясь и дёргая головой по подушке, набитой сухими листьями, — чтобы стереть со щеки слезу.
После приходил сон. Пустой, видно посланный богами, чтобы отдохнуть от страшных картин. А когда наступало серое утро, визжащее поросятами за стеной и перекликающееся криками соседок, мысли снова просыпались и ползали внутри головы. Тогда надо было что-то делать. Чинить крышу, управляясь одной рукой, поправлять стены и полку в чулане, чтоб не падала посуда. Помочь Онне кормить двух коз, привязанных в дальнем закуте. Но стоило сесть с занывшей от усталости спиной, баюкая перевязанную руку, как снова в голове начинался шелест и шуршание.