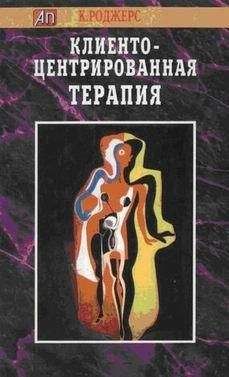Аутистическое поведение Кевина проявлялось в стереотипах, компульсивном или агрессивном обращении с предметами, в протестах. Невозможность реализовать какое-то намерение рождала в нем состояние паники и вспышки ярости. Я всегда старалась использовать все новое осмысленно, чтобы оно не превращалось в стереотип или ритуал. Это просто должно было случиться в течение первой недели, как это и произошло с красным шарфом.
Интеллект и восприятие у Кевина были развиты достаточно, чтобы адекватно реагировать на определенные ситуации, когда я пыталась заставить его «увидеть» самого себя и прийти к согласию с реальностью. Несмотря на то, что ему очень нравилось происходившее в музыкальной комнате, даже там потребовалось долгое время, чтобы он научился терпимо относиться к тому, что я могла являться преградой к исполнению его желаний. Если он стремился пойти со мной на открытый конфликт, я уходила в угол комнаты и занималась какой-нибудь мелочью. Я считала некоторые из его приступов раздражения нормальным явлением. Кевин чувствовал, что музыкальная комната – это безопасное место, где он мог самовыражаться, не опасаясь наказания.
Обычно, если в припадках ярости он бросался на пол, визжа и пинаясь, я молча стояла и наблюдала за ним. Когда он остывал, я предлагала ему платок – вытереть нос и слезы, и обращалась с ним ласково и заботливо. Воцарялся мир, и мы возвращались к нашей музыке.
На втором году занятий у Кевина случился особенно сильный припадок ярости, который был равносилен проверке наших взаимоотношений на прочность. Я открыто возражала мальчику, отказываясь принять в стенах нашей музыкальной комнаты ту неизменную схему, к которой он привык на классных уроках пения. Кевин не выносил, когда нотные листки не были пришпилены к доске, по которой он компульсивно водил пальцем, следя за словами. Когда я отказалась, он упал на пол, пронзительно визжа и пинаясь, однако на меня не нападал. Мое молчаливое сопротивление победило его ярость, которая, в конце концов, стихла. Это заставило его примириться с ситуацией и с самим собой. С этого момента он стал принимать изменения в наших вокальных занятиях, он стоял или сидел на столе или на полу, играл на цитре или барабане, вместо того чтобы неотступно водить по словам пальцем. С того дня Кевин понял, как можно исполнять музыку гибче и свободнее. Он стал гораздо лучше петь, более умело обращаться с цитрой, на которой аккомпанировал своим песням. Он усвоил несколько песен, которые пелись на утренних собраниях в школе, и позднее мы начали их записывать.
Несмотря на проблемы с поведением, Кевин был смышленым ребенком, способным меняться, чтобы достичь конкретной цели, если только его не обуревали внутренние конфликты. В течение следующего периода музыкальные успехи Кевина шли рука об руку с развитием наших взаимоотношений и с его осознанием самого себя.
Идентичность Кевина развивалась постепенно, по мере того, как менялись его реакции на музыку. Во время первого периода его активность не имела никакого стержня. Его внимание и интересы перескакивали с одного предмета на другой, он не мог ни на чем сконцентрироваться и не мог выдерживать никакие требования. Он искусно и совершенно недвусмысленно, без колебаний, уклонялся от коммуникации.
Кевин был жизнерадостным мальчиком, ему многое нравилось и в том числе музыка. Я чувствовала, что психологически он достаточно крепок, чтобы договориться с собой и осознать себя. Спустя много времени мы достигли этого с помощью музыки. Мне уже удавалось предъявлять к нему требования и помогать осознавать самого себя в музыкальных опытах. В конце третьего года произошел такой типичный случай. Кевин играл на виолончели и с ним приключился внезапный приступ злости. Он начал яростно бить смычком по инструменту. Я не произнесла ни слова и забрала виолончель. Так повторилось снова, и еще раз на следующей неделе. Я опять ничего не сказала и предложила мальчику заняться чем-то другим, что остудило его пыл. Это напомнило мне похожий случай, когда он плюнул мне в лицо, а я промолчала. Молчание, несомненно, производило на мальчика огромное впечатление, а временами даже помогало ему осознать самого себя.
На третьей неделе, когда я дала Кевину виолончель, он с готовностью взял ее, однако, к моему изумлению, отказался от смычка и играл пиццикато.[31] Это было крайне необычно. Но тут мне пришло в голову, что Кевин каким-то образом почувствовал, что он не может доверять себе в том, что касается владения смычком, и решил обойтись без него.
Когда я впервые встретилась с Кевином, речь его была эхо-лаличной, мышление спутанное, он не понимал «кто» и «чем» занимается. На музыкальных занятиях мне пришлось предлагать ему простейшие ситуации и осмысленные действия, с тем чтобы избежать интеллектуального хаоса и ухода от реальности.
Мало-помалу музыка заставила Кевина стать индивидуальностью в безопасном окружении, где он мог наслаждаться свободой. В его распоряжении были инструменты – средство самовыражения. Они никогда не служили игрушками, а были ценными, значимыми предметами, с которыми обходились хорошо.
Техника игры на музыкальных инструментах зависит от позы исполнителя. Она может красноречиво свидетельствовать о состоянии ребенка с аутизмом, особенно если он замкнут в себе. Когда Кевин уходил в свой внутренний мир, нужно было следить, чтобы он не горбился в три погибели над виолончелью или цитрой или сильно не наклонялся над ксилофоном. Во время пения я старалась заставить мальчика поднять подбородок и петь «вперед». Пение помогло ему осознать сам процесс вдоха-выдоха. Он научился интонировать, тянуть длинные ноты голосом или играя на мелодике или виолончели. Реакции Кевина на музыку были импульсивными и навязчивыми. Но рожденные ими творческие порывы и стремления, несомненно, помогли ему оценивать себя.
Стремление Кевина петь определенную мелодию, слушать одну и ту же музыку, играть на конкретном инструменте носило непреодолимый и ригидный характер. Он не мог ждать, жил одной минутой, как очень незрелый ребенок. Я нередко использовала его сильное стремление к музыкальной цели так, чтобы музыка представляла для него награду в тех ситуациях, когда он был готов ждать и контролировать себя.
Также я настояла на том, чтобы Кевин произносил «я», говоря о себе. Раньше он всегда говорил о себе в третьем лице. Он мастерски манипулировал и избегал этой проблемы, говоря, например: «... играет на барабане» и пропуская местоимение. Но я никогда не поддавалась и выполняла его пожелание, только если он скажет «я». Ригидность его ослабла, и спустя несколько месяцев он начал говорить о себе в первом лице, причем всегда, а не только в музыкальной комнате.
Даже на этой, более поздней, стадии поведение Кевина временами указывало на некие конфликты или проблемы, с которыми он сталкивался дома. В такие моменты он мог избрать форму молчаливого протеста против общения, например избегал смотреть в глаза, отключался и замыкался в себе.
Тем не менее, несмотря на свое сопротивление изменениям и манипулятивное поведение, Кевин выказывал разносторонние музыкальные способности. Он обладал приятным естественным певческим голосом, который был искажен глубоко укоренившейся привычкой резко и жестко подчеркивать отдельные слова. Он чутко реагировал на ритм верхней частью тела, но не ногами. Нередко он стоял с непонимающим видом, скрестив ноги, как будто вовсе не осознавая их, до тех пор, пока я специально не обращала на них внимание. Но Кевин прекрасно контролировал руки и пальцы. Отдельные его способности выглядели многообещающе. Однако усвоение техники игры на любом инструменте требует определенной доли понимания причин, следствий и сферы их приложения. Одной ловкости рук недостаточно. Кевин интуитивно умел обращаться с некоторыми инструментами, но цель его заключалась лишь в извлечении звука самого по себе, а дальше дело не шло. Он усвоил какие-то отдельные, не связанные друг с другом вещи, например литерные названия нот на пластинчатых колокольчиках или виолончели. Ему нравилось экспериментировать с новыми инструментами, и он определенно сразу же «пристрастился» к виолончели. На любом занятии мальчик имел возможность играть на восьми разных инструментах и вплоть до самого конца наших встреч играл то на одном, то на другом из них, в то время как другие мальчики стали избирательнее относиться к инструментам. На звуки, которые он сам и производил, мальчик реагировал пропеванием или проговариванием ритма. Пение Кевина отражало его настроение и служило эмоциональной отдушиной.
Как уже отмечалось, Кевин обладал от природы красивым голосом, звучным и мелодичным. Но его портила привычка подчеркивать ритм словами или просто голосом, упрямо и бессмысленно пропевая все на одном дыхании. Я стремилась заставить мальчика петь на его собственные слова, а затем пыталась придать им какой-то смысл. Мало-помалу, когда Кевин смог слушать свое соло, а не соревноваться в пении с другими ребятами, голос его «потеплел». Как правило, аккомпанируя себе на цитре, он четко отбивал ритм, если только не был сердит или возбужден.