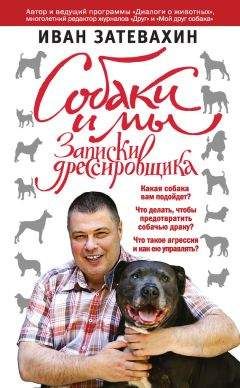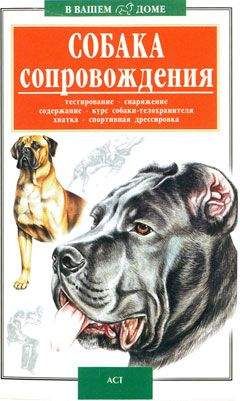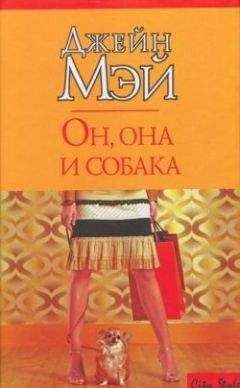— Нет, — сказал он. — Все в порядке, Далли. Все в порядке.
Есть люди, чьи сердца так полны мерзкого страха, что они, когда увидят страдающего от жажды пса с подтеками слюны на пересохших губах, бегут со всех ног и в ужасе вопят: «Бешеная собака!» Есть и такие, для которых каждая тварь, проходящая мимо, — это враг и его нельзя оставлять в покое, надо кидать в него камнями. Но, к счастью для собачьего рода, есть и другие люди, любящие и понимающие собачью душу, и они вносят достоинство и честь в отношения между человеком и собакой.
К ним принадлежали и те старые муж с женой. На следующий день, в дополуденный час, они сидели вдвоем и поглядывали на собаку. Когда время подошло к четырем и Лесси поднялась, они стали следить глазами за каждым ее движением.
И когда Лесси заскулила у дверей, а потом зашагала к окну, они оба вздохнули.
— Хорошо, — сказал старик.
И больше ничего. Они встали. Женщина открыла дверь. Бок о бок старик и его жена вышли вслед за Лесси и проводили ее до дороги.
Здесь собака постояла с полминуты, как будто ей не верилось, что наконец она может последовать своему неотступному стремлению. Она оглянулась на женщину, чьи руки ласково похлопывали ее, и поглаживали, и кормили.
Был миг, когда старушка хотела уже окликнуть собаку… снова позвать ее к себе… сделать попытку отлучить ее мысли от памяти о прошлом. Но она была слишком честна. Она подняла голову, и старческий голос ясно проговорил:
— Ну так, собака, хорошо. Раз тебе надо идти… так уж иди вперед своим путем.
В этой фразе Лесси разобрала слово «вперед». Это ей и нужно было. Она обернулась, еще раз поглядела прощальным взглядом и пустилась — не вверх по дороге, на восток, и не вниз по дороге, на запад, а напрямик в поля. Она снова шла на юг.
Шла трусцой — той самой трусцой, которая честно пронесла ее через всю Горную страну. Тем не быстрым и не медленным, но неизменным ходом, который пожирает мили, которым можно бежать и бежать час за часом. Так пересекла она ближнее поле, перемахнула через изгородь, побежала вниз по откосу.
Позади, на дороге, стояла, вскинув подбородок, старенькая женщина. Подбородок ее был неподвижен. Она махала рукой и говорила:
— Прощай, Миледи! Прощай!.. Доброй тебе удачи.
Собака давно уже скрылась из виду, а старики все стояли на дороге. Муж обнял жену за плечи.
— Похолодало, Далли, — сказал он. — Пойдем-ка домой.
Они вернулись к себе, и жизнь пошла своим чередом. Женщина приготовила незатейливый ужин. Зажгла лампу. Сели вдвоем за стол.
Но ни он, ни она не ели.
Наконец муж поглядел на нее и сказал проникновенно:
— Я на ночь поставлю лампу на окошко, Далли. На случай, если Миледи… кто знает, может, она просто убежала в далекую прогулку. Так чтобы ей, если она захочет, легче было найти обратную дорогу…
Он знал, что собака никогда не прибежит обратно, но он подумал, что жене станет легче на душе, если он скажет ей так. Но он смолк на полуслове, когда поднял глаза и увидел, что жена опустила голову и по щекам ее катятся слезы. Он вскочил.
— Ну что ты, Далли! — сказал он. — Ну что ты!
Он обнял ее и, утешая, погладил по плечу:
— Не огорчайся, Далли. Слушай, что я тебе скажу. У меня отложено несколько шиллингов, и я еще соберу десяток-другой яиц и продам, а потом пойду на рынок, и я там знаю место, где продают собак. Я тебе куплю взамен другую. А? Чудную маленькую собачку, щенка, который останется с тобой и не захочет убежать… А Миледи была слишком большая, да… Большие собаки — им, как-никак, надо много есть… Ну, а… славный маленький щенок, он…
Старая женщина подняла глаза. Ей хотелось выкрикнуть слова, какие всегда говорит собачник, потеряв свою любимицу: «Мне не надо другой собаки!» Но, встретив взгляд мужа, она так и не выговорила этих слов.
— Да, кормить ее стоило не дешево, Дан.
— Конечно. А если взять щенка… или, может быть, котенка… это почти что ничего не будет стоить…
— Верно, Дан, лучше котенка! Достал бы ты мне совсем маленького, славного котенка.
— Да… Он потом будет лежать, свернувшись, на печи и останется при тебе. Верно! Я достану тебе чудного котенка — такого, что лучше и желать нельзя. Хочешь?
Старая женщина подняла глаза.
— Ах, Даниел, ты такой добрый! — Она отерла слезы и улыбнулась.
— Да чего уж там. У нас все, должно быть, перепрело… И чай совсем остынет, — сказал он.
— Ох, мне что-то не хочется есть, Дан.
— Ну, так выпей хоть чашку крепкого чая.
— Вот это да, — сказала она. — По чашке крепкого чая! Это нас обоих подбодрит.
— Да, конечно. А в субботу… я принесу тебе котенка, такого красивого, что ты в жизни не видала красивей. Хорошо?
Далли мужественно улыбнулась.
— Да, это будет очень хорошо, — сказала она.
Глава девятнадцатая
ПОПУТЧИЦА РОУЛИ
Роули Палмер кончил бриться и отер свою старомодную прямую бритву.
Это был маленький человек с красным лицом, которое казалось как бы усаженным пуговицами. Глаза у него были похожи на пуговицы, обветренные губы были похожи на пуговицы, лоб и подбородок были в желваках и бородавках, тоже похожих на пуговицы.
Подобие переходило в реальную сущность на его одежде. На нем была шерстяная фуфайка, на которой везде, где только можно, красовались перламутровые пуговицы. Поверх фуфайки он носил странного вида плисовую куртку с кожаными рукавами, и на ней было без счета медных пуговиц, которые, когда разглядишь, оказывались не чем иным, как пуговицами, отслужившими службу на солдатских гимнастерках в королевской армии.
Лицо и фигура Роули Палмера были хорошо знакомы людям по всему северу Англии, так как был он разъездным горшечником. Он жил в крытой повозке, в которой вез весь свой товар, потихоньку разъезжая с ним по дорогам. Подъехав к деревне или городу, он вытаскивал крепкую дубинку и принимался колотить в самую свою большую глиняную миску — огромную посудину с желто-коричневой обливкой. Получался звук, подобный густому звону колокола.
При этом Роули заводил нараспев:
«Едет Палмер-молодец, разъездной купец. Он горшков привез большущий воз. Деньги вынимай, по вкусу выбирай. Товар горшечный, дешевый и прочный!»
Он любил вот так торжественно въезжать в маленькие городки английского севера и крепко бить в глиняную миску. Он всегда гордо колотил по ней изо всех сил по двум причинам: чтобы возвестить о своем приезде и чтобы показать, как же прочны его изделия, если не раскалываются под такими крепкими ударами.
Раз в год он пускался в дорогу.
Когда запас начинал иссякать, Роули Палмер поворачивал и кружным путем ехал назад, в родную деревню, где его старший брат Марк изготовлял гончарный товар. Марк поднимет глаза и кивнет ему из-за гончарного круга в большом сарае, где он выделывал по старинке свою глиняную утварь. Роули наберет новый запас товара: всяческой посуды — от маленьких детских мисочек для каши вплоть до самых больших, фута на три в поперечнике, в каких хозяйки на Севере месят тесто на хлеб, а нередко в них же купают младенцев. Он нагрузит опять свой фургон желто-коричневой утварью, так и сияющей ярким глянцем, и снова в путь. «Ну, я покатил», — скажет он, отъезжая.
Марк поднимет глаза, кивнет — и опять за работу.
Роули снова пускался в путь — днем ехал, к вечеру отгонял свою сивую Бесс за обочину дороги, на какое-нибудь удобное место для стоянки.
Жилось ему счастливо, уютно. Ведь у Роули в фургоне был полный дом. Просто не верилось, что на таком маленьком пространстве можно было так хозяйственно устроиться именно благодаря тесноте. Зачастую в знак особой благосклонности к покупателям Роули показывал им свое жилое помещение. И тогда даже самые домовитые хозяйки, заглянув внутрь, принимались восторгаться царившей в фургоне безукоризненной чистотой.
Там было свое место для всего. Место, куда Роули клал бритву. Место для умывального таза. И маленькая жердочка для полотенца.
Утром Роули складывал койку, завтракал, убирал посуду. Потом запрягал Бесс, пристраивал торбу с овсом под кузовом и взбирался наконец на козлы.
— Но, Бесс! Трогай! — прикрикнет он.
Выбравшись на дорогу, Роули на ходу соскочит с повозки и зашагает рядом: Бесс и без его добавочного веса должна тащить немалую кладь. А он любит ходить пешком, когда погода не слишком плохая.
Сегодня как раз погода хорошая. Роули шагает в еще стелющемся по земле утреннем тумане и звонко распевает:
Отец, могилу глубже вырой,
А на плите голубку вырежь,
Чтоб каждый знал: любовь тая,
Сошла в могилу дочь твоя.
Песня печальная, но для Роули это безразлично. Он поет всегда без разбору, что придется. Просто в его одинокой жизни собственный голос только и может составить ему компанию от города до города. У него нет для компании никого, кроме Бесс, его лошадки, и Тутс. А Тутс — о, она человек, как выражается Роули. Сейчас она сидит на козлах — маленькая белая собачка, не то пудель, не то фокстерьер, или, может, шпиц, или скайтерьер; а вернее сказать — все вместе.