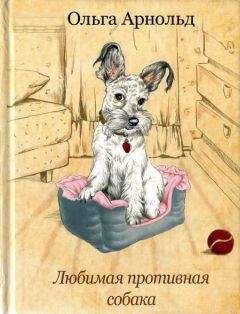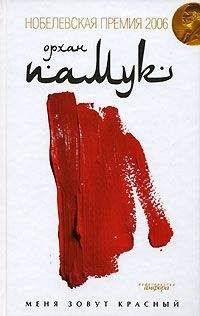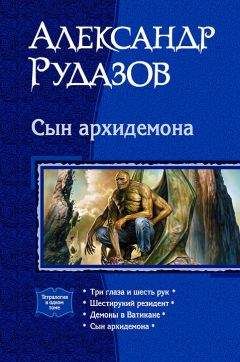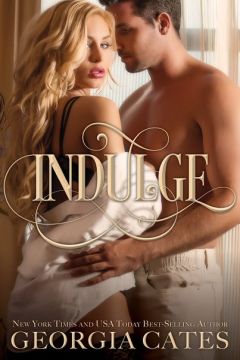Она вообще часто обижается, как будто мы виноваты, что она такая неуклюжая! Вот я если и обижаюсь, то по делу. Например, как-то раз Мама собрала мои игрушки и куда-то унесла, так я перестал ее слушаться и ей назло стал на прогулке подходить к чужим тетенькам и подлизываться — возьмите, мол, меня к себе, у меня хозяйка плохая! Мама очень переживала, но потом выяснилось, что я оскорбился напрасно, потому что она мою собственность отнесла к Бабушке — на несколько дней меня туда переселили. А когда Мама меня шваброй доставала из-под дивана, чтобы сделать укол, я вообще с ней долго не разговаривал — столько дней, сколько я считать умею (у людей это называется неделя — она кончается двумя выходными, когда Папа дома и может все время со мной заниматься). Я переселился в другую комнату, перестал с ней играть и вообще общаться, только наблюдал, как она передо мной на задних лапках ходит. Потом мне это надоело, и я решил ее простить, но с тех пор она никогда не берется за швабру.
Гулять с семейством Художницы было хорошо не только в лесу. Во дворе было очень много незнакомых мне собак, но Берта с Санни их всех, конечно, знали. Со всеми у них были свои отношения, с кем-то они дружили, а кого-то на дух не выносили. Например, в нашем же подъезде жила очень противная ризеншнауцериха Кинза, с которой Берта дралась. То есть они обе дрались бы, если бы хозяйки их отпустили, но хозяйки, упираясь изо всех сил, при встрече растаскивали их за поводки. Зато я с удовольствием готов был Кинзу съесть! Она, правда, сначала, пока я наскакивал на нее с лаем, меня не заметила, так что мне пришлось даже вцепиться ей в ляжку — должен же я, в конце концов, защищать своих дам! Она удивленно обернулась, наконец меня рассмотрела и уже разинула пасть, чтобы меня схватить, но я успел отбежать и спрятаться у Берты под брюхом. Вообще выяснилось, что это очень удобно — прятаться под Бертой. Вскоре я совершенно свободно облаивал всех окрестных овчарок, а когда они кидались на меня, то скрывался под Бертой. Некоторые овчарки резко тормозили, завидев Берту и услышав ее угрожающее рычание, а некоторые этого сделать не успевали, и начиналась всеобщая свалка — потому что к драке присоединялась Санни, ну и я, конечно, в этом участвовал. К сожалению, Художнице это не нравилось, ей надоело нас растаскивать, и вскоре я, как и Берта, ходил на поводке, на свободу меня выпускали только в лесу. Конечно, это было не совсем удобно, но зато я гордился собой — значит, я не менее грозный пес, чем бразильский мастиф! Тем более что Санни, всего-навсего мирный стаффорд, всегда гуляет без привязи.
Художница назвала меня провокатором. Я не знал, что это такое, обижаться мне или нет, но мне стало интересно, и я начал прислушиваться к разговорам на кухне за вечерним чаем. Хозяин много рассуждал о каком-то Макиавелли (это какой-то человек, которого давно нет) и о том, что мы, все звери, — его последователи. А кто-то из гостей, шибко ученый (в тот день за столом собралась большая компания) заметил, что обман — это признак высшего ума и «макиавеллизм» (слово-то какое! Если бы не Мамина помощь, ни за что бы не написал!) присущ, кроме человека, только высшим обезьянам. В ответ Художница заявила, что насчет обезьян она не знает, а вот кошки и собаки точно ученики этого самого Макиавелли — и, значит, умнее, чем все думают.
Насчет ума я, конечно, согласен, но насчет провокатора — нет. В общем, я понял, что провокация — это когда поступаешь плохо, а потом делаешь так, чтобы за твои грехи расплачивался кто-то другой. Например, Кнопка стащит со стола кусочки ветчины вместе с тарелкой, а потом, наевшись, — а ест-то она самую тютельку, — громко мяучит, в кухню вбегает кто-нибудь из взрослых, и влетает Толстику, который расположился под столом со вкусом перекусить. Или она пристает к Берте, и та не выдерживает и берет ее в пасть, а Кнопку таскать в зубах ей строго запрещено — вот Толстика она может носить, как щенка, сколько угодно. Хозяйка кричит: «Плюнь кошку!», Берта ее выплевывает, Кнопка начинает себя вылизывать с видом оскорбленной невинности, а Художница выговаривает Берте.
Нет, какой же я провокатор? Я же всегда учу уму-разуму больших собак, независимо от того, есть ли Санни с Бертой под боком или нет. Скорее это Санни — провокаторша. Хоть Санни хромая и вообще уже в возрасте, вокруг нее вьется уйма всяких кавалеров, и больших, и маленьких. У меня с этими кобелями конфликтов не было — небось, сразу поняли, что меня трогать нельзя. Так вот, на моих глазах Санни тяпнула за ляжку сначала огромного черного терьера Винни, а потом добермана Алекса. Они не поняли, кто на них напал, и сцепились друг с другом, а Санни наблюдала за дракой, и глаза у нее блестели от удовольствия. А однажды Винни посмел заигрывать с Бертой, и Санни затаила на него злобу. Берте она ничего не сказала, а на несчастного Винни набросилась так, что клочки его бороды у нее долго из пасти торчали. В общем, выдрала ему все волосы — типичная женщина (так сказал хозяин Винни).
Вообще-то Санни не вредная, а наоборот, мирная и веселая. И с Винни она могла бы поступить совсем по-другому. Как-то раз при мне к нам прибился чужой незнакомый кобель невнятной породы, лохматый и нехилый, — и вдруг ни с того ни с сего цапнул ее за лапу! К тому же за больную. Санни просто озверела — и укусила обидчика за плечо, просто повисла на нем, совсем рядом с шеей. Лохмач тут же потерял всю свою спесь и жалобно завизжал. И визжать ему пришлось долго, потому что Санни его не отпускала, и Художница вместе с подоспевшим молодым парнем, его хозяином, вдвоем никак не могли разжать ей челюсти. Когда в конце концов им это удалось, то этот дурной пес так хромал, что хозяин его унес на руках. Но обычно Санни пребывает в превосходном настроении, ко всем относится хорошо, и ее любят и люди, и собаки. С окрестными мальчишками она часто гоняет мяч, это называется футбол. Обычно он продолжается до тех пор, пока мяч случайно не прокусывается. Как-то раз я тоже принял участие в игре, но как только я домчался до мяча и попытался по нему наподдать, при этом случайно перевернувшись через голову, все вдруг перестали бегать, держась за животы, а Художница меня забрала — сказала, от греха подальше, не дай бог кто-нибудь наступит.
А однажды вечером Санни пришла домой очень веселая, слегка пошатываясь, и от нее разило почти так же, как от Художника из нашего дома. Оказывается, они с Машей ходили в лес на пикник, и наутро хозяин долго и нудно читал дочери нотацию — мол, ты же знаешь, что Санни вредно пиво, хоть она его и любит, не спаивай собаку! Бррр, как можно любить пиво, это такая гадость! Меня Папа им как-то угощал, но я его только понюхал, мне хватило, даже не лизнул.
Несколько раз вечером Маша, уходя из дома, брала с собой одну только Берту. Перед этим она наносила на лицо краску и душилась какими-то феромонами, которые пахли вполне приятно. Это духи такие особые. Из разговоров я понял, что феромоны — это то, чем пахнут суки, когда к ним особенно липнут кобели (но не я, конечно). Зачем, интересно, Маше это нужно, если вокруг нее и так вертится столько ухажеров, сколько вокруг Санни озабоченных псов? Обе девицы, и двуногая, и четвероногая, шагали по улице, одинаково вихляя бедрами и высоко задрав нос, Берта при этом подстраивалась под Машу, шествовавшую на высоких каблуках. Они вроде бы никого не замечали — ни людей, ни собак, Берта даже на всяких шавок и своих заклятых врагов не обращала внимания. Парни на них глазели, но подходить близко боялись, опасаясь Берты.
И правильно опасались. Берта — не Санни, ко всем добрая, для Берты свои — это свои, а чужие — это чужие, которых надо есть. А свои у нее — только те, кто живет вместе с ней. Подумать только, она даже на мою Маму рыкнула! Фила бразилейра есть фила бразилейра. Она гордится тем, что ее предки охотились на ягуаров и стерегли рабов на плантациях, чтоб не сбежали. А так как в Москве и пригородах нет ни рабов, ни плантаций, ни тем более ягуаров, то ей приходится искать им замену. Ягуаров ей, наверное, заменяет кошачье семейство, и если с Толстиком и Кнопкой она как-то справляется, то на моих глазах Дуся так ей заехала когтистой лапой по носу, что мало не показалось. И кровь была, и шрам остался.
А за рабов она считает узбеков и негров. Про узбеков я уже говорил, это дворники и прочие рабочие, а негры — это двуногие с темной, почти черной кожей. Это как скотчтерьеры: есть вести, белые, а есть черные — всех таких почему-то зовут Кляксами. Я одинаково отношусь и к тем, и к другим — пусть живут себе. В моем родном дворе живут и разноцветные скотчи, и одна такая темная девушка. Она дружит с младшим хозяином Цунами, очень меня любит и часто таскает на ручках. А в доме Художницы, в соседнем подъезде, поселилась целая семья негров, и Берта, встречаясь с ними, тут же вся ощетинивается и делает рывок, так что хозяйка, удерживая ее, чуть не падает на землю. При этом она меняется в лице и бормочет извинения, а потом жалуется хозяину, что боится дипломатического конфликта, мол, хорошо, что консул и его родные такие интеллигентные люди, хоть и из Центральной Африки, и на Берту не обижаются.