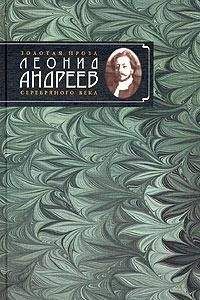— Нечем чем! — и жалобный крик: — Нечем чем! Нечем чем! Как же так. Господи?!
Он вскочил, лицо его было искажено. Натягивая брюки, он рванулся в прихожую. Не помня себя, почти ничего не понимая, я встала и оперлась о стол. В этот момент в дверь коротко и быстро несколько раз позвонил Егор: это был его условный сигнал, так он сообщал, что явился и хочет, чтобы я ему открыла сама. Я стояла, не имея сил ни двинуться, ни что-либо произнести. Щелкнул замок: Егор вошел в прихожую. Молнией сверкнула мысль: там этот… с ножом!
— Егорушка! — опрометью метнулась я за дверь… В коридоре на полу, скрючившись, сидел Николай, на его ногах уже были сапоги, он сидел недвижно около своего ножа. Над «гостем» в позе вопроса стоял Егор, глаза его, обращенные вниз, были холодны. Я уже однажды видела их такими, когда мы столкнулись с юным курящим в трамвае хамом. Что сделал тогда Егор, я не успела заметить, но бьющегося в спазмах и испускающего пену на полу его увидали все дотоле безмолвные пассажиры, и нам пришлось поспешно сойти прочь под их истерический лай…
— Милицию привлекаем? — спокойно спросил у меня Егор. — Нет! Нет! Нет! — вихрем пролетела мысль о последствиях новой встречи с милицией для этого бедолаги с ножом!
Николай вскочил на ноги:
— Зачем мне жить? Зачем мне жить? — лицо его было искривлено, из горла вырывались клокочущие звуки. Вдруг он с треском разорвал на груди рубаху и заточкой стал резать-полосовать себя по голому телу, хрипя: — Зачем жить? Зачем мне жить?! — он бросил нож на пол и согнулся, прикрывая ладонями сразу набухшие кровавые полосы на груди и животе. Я охнула, а Егор спокойно снял льняную скатерку со столика в прихожей, развел его руки и наложил ткань на раны.
Потом он засунул болтающийся конец скатерти ему в брюки и за плечи вывел на площадку в парадную:
— Вот твой мешок, матрос, а вот и бушлатик. Натягивай и топай. Все. Полный дембель. — Его же перевязать надо, раны дезинфицировать! — . вскричала я, кидаясь к ним. — А это уже его проблемы, — жестко возразил Егор — Топай, топай, красавец, курс зюйд-вест!
Не поднимая глаз, Николай влез в подставленный Егором ватник, взял рюкзак за одну лямку и пошел. Егор захлопнул дверь и дважды со щелчком повернул замок. Слезы принялись душить меня, я зарыдала в голос, прислонясь к косяку. Егор приобнял меня за плечи:
— Кто таков? Он обидел тебя? — Женишок прежних лет. Несостоявшийся. Отсидел. Пришел права предъявлять. — Меня колотило у него на груди. Я говорила отрывисто, то замолкая, то подвывая странным, не своим голосом. Детонька моя, ну не расстраивайся ты так из-за этого жениха. Пришел и ушел. А ты у меня вот какая редкостная: не из-за каждой тетки мужики харакири себе норовят устроить! Я заревела просто в голос: — Он хотел… Он ножом мог и тебя, и меня!.. — Ну, пойдем-пойдем, моя деточка, умоем рожицу, успокоимся и приготовимся с тобой к новым приключениям. — К каким еще новым приключениям? — слезы снова брызнули у меня, как плотину прорвало. — Хватит с меня, хватит! Я хочу жить тихо, спокойно, чтобы никто больше нам не мешал, в нашу жизнь не вмешивался! — Да и я хочу, но уж такая ты историческая женщина что без историй не можешь.
О, Боже, насколько же он оказался прав!.. Но на этот раз беда пришла не из внешнего мира, а из недр моего собственного потрясенного, и страшнее ее мне трудно даже что-либо представить: Егор ушел от меня.
Из-за меня.
Я до сей поры жила и не могла нарадоваться тому, как складно наладились добрые отношения у Егора с Ольгой и Максимом. Конечно, дело было в том, что он их не воспитывал, он просто жил с ними, как с равными собеседниками, как с соратниками по общему семейному делу. Они были для него хоть маленькими, но людьми. Сердце мое пело и ликовало, когда они с Оленькой, к примеру, наводили порядок в ее кукольном царстве («Сама-то подумай своей головою, как же Марианка сможет в гости к Мишке пройти через завал из этих тарелок? Значит, надо эти тарелки убрать куда-то. Согласна? А вот куда, давай помаракуем вместе. Нужен специальный буфет? Нужен! Зови Максима, будем мастерить с ним буфет…»)
Конечно, я несколько удивилась, когда однажды увидала в углу детской комнаты сваленные ящики и бухты с канатами: неплохо было бы и со мной посоветоваться предварительно. Но Егор так чистосердечно объяснил, что неожиданно сегодня днем получил какие-то премиальные и так же неожиданно по дороге Домой наткнулся в спортмагазине на комплект тренировочных снарядов для детей, что я не стала на него сердиться. А уж когда запоздало мелькнула мысль, что затраченной суммы ему вполне хватило бы на полную и современную экипировку, что было бы совсем не вредно по его директорскому положению, я еще и еще раз оценила его преданность семье, его отцовский подход к вверенным его опеке детям. Моим детям, которые стали и его собственными детьми.
Вот в этих канатах, перекладинах, лесенках, скамеечках и шведской стенке и был сокрыт конфликт, который вспыхнул как будто вдруг, но в самом деле тлел уже исподволь: Максим не очень уж старался тренироваться, а Егор был неукоснителен в своих требованиях. Коса нашла на камень. Но, может быть, причина лежала глубже? Ведь Максим был ревнивым мальчиком, и в душе его зрела обида: своего отца в кругу семьи он практически не знал и не помнил, и он был единственным центром внимания. Потом появился Олег, который — хочешь не хочешь — лишил его монополии на исключительность. Затем возникла Олечка, и круг моего времени, предназначенного ему, еще сузился. А тут вот вошел в нашу жизнь и Егор… И не просто внедрился, но вошел как ее хозяин. В семейной иерархии Максим отодвинулся далеко назад со своего исключительного прежде центрального места, и внимания моего стал, естественно, получать меньше. И его подспудная ревность оттого еще разгоралась, что не мог он не видеть, не чувствовать, как мы с Егором были счастливы своей любовью. Я не психолог, в тайны его подсознания внедряться — не моя профессия, но теперь я глубоко уверена, что обида, горечь, ревность, чувство собственничества на мать, зависть к чужаку и другие темные чувства вполне иррационально взрастали в его маленькой уязвленной душе и шевелились там, как клубок ядовитых змей.
И вот все сошлось, как нельзя хуже: Максимка с громким ревом прибежал ко мне на кухню жаловаться: «А чего он меня заставляет? У меня рука болит, не могу я по лестнице забираться! А он меня, как раба несчастного мучает!» и рев во все горло, с настоящими горькими слезами.
Было это как раз накануне «события», проще говоря, моей менструальной протечки. В общем-то издавна зная за собой повышенную обидчивость в эти дни, я старалась держать нервишки в кулаке. Но здесь, после недавней встряски-встречи с двухметровым Сашей-рэкетиром, после «визита» Николая, который в полуметре от меня ножом в кровь исполосовал свое тело (а мог бы мгновенно насадить на сверкавшую заточку и меня, а мог бы ударить в спину и Егора, когда тот проходил мимо него), после всего этого и перед надвинувшимися месячными я сорвалась. И сорвалась безобразно! Я принялась утирать мокрое лицо мальчика фартуком: — Не кричи! Никто тебя не заставляет. Какая у тебя рука болит? — Эта, нет эта, обе болят!
Появившись на пороге кухни, Егор насмешливо проком монтировал: Хорошо, что у нас только две руки, а то болели бы все четыре. — Замолчи! взорвалась я. — Должна же у тебя быть какая-то жалость? Не машина же он в самом деле! У Егора удивленно поднялись брови: можно ли пререкаться в присутствии детей? А меня понесло: — Да не все же способны быть такими правильными, как ты! Могут же быть у человека слабости! Все! Хватит! Максим, иди, отдыхай! Торжествующий Максим, у которого мигом высохли слезы, направился мимо Егора к себе, но тот жестко взял его за плечи: — Да мужчина ты или фуфло? — Пусти! Пусти меня! Не трогай! — вдруг завизжал как укушенный мой сыночек и стал вырываться из его рук. — Пусти его немедленно! завизжала и я, потеряв от ярости разум.
Разгоревшимися глазами, молча смотрел на меня Егор: такие сузившиеся зрачки могли бы и металл прожечь! Ничего уже не. понимая, не соображая, я подскочила к нему и освободила от его захвата ребенка: — Максим иди к себе. В туалет и в постель немедленно!
Мальчик метнул мгновенный торжествующий взгляд поочередно на Егора и на меня и с лошадиным топотом помчался по коридору. Пушечно грохнула за ним дверь в детскую. А меня несло: — Ты кто такой? Судья, прокурор и палач в едином лице? Да посмотри ты на свои ручищи и сравни с его плечиками! — Я отец, — медленно, каким-то ржавым голосом произнес он. — Мое дело — вылепить из него мужчину, а не слюнтяя, мамсика. — Не смей так говорить! (О, Боже, неужели это я так визжу?!) С собственным ребенком ты бы так не посмел поступать! Садист, а не отец! — Ты знаешь, что слова имеют смысл? — все так же медленно, все тем же ржавым голосом спросил он. — Знаю! Все знаю! Нельзя так с ребенком обращаться! Это тебе не солдат. Пора бы уже с воинскими привычками расставаться. Добрее надо быть, добрее! — Доброта — это лентяя ростить? Отец таким должен быть, по-твоему? — Максим — не лентяй! Нормальный ребенок. Надо же понимать особенности переходного возраста! — От нуля и до трех — вот И весь переходный возраст а потом… Впрочем, прекратим базар. Если в семье нет одной линии, значит, нет семьи. — Думай, как тебе угодно! — Да. Я буду думать, как мне угодно, — с какой-то мучительной интонацией согласился он и вышел. А я осталась грохотать посудой и швырять сковороды с места на место. О, дура, какая дура! Я думала, что знаю Егора, примеряла по себе: побесилась, шумнула, отойду, в конце концов. А для него слова действительно имели первозданный смысл, он понимал их так, как они прозвучали, обстоятельства их возникновения для него роли не играли. Ну что бы ему обнять меня, утешить, дескать, кончай, женушка, бузить и напраслину нести? Я покричала бы еще, пофыркала, поплакала, наверное, немного, и все кончилось бы. Нет, он был другой, он слова принимал всерьез. Нельзя было обижать то, что составляло его убеждения, его честь, унижать его нельзя было категорически! По-видимому, мой прежний опыт обращения с мужьями и другими мужчинами был дефектен, потому что они не ценили в себе мужчину. Самолюбия и самолюбования у них хватало выше головы, а вот понятия о чувстве чести они лишены были напрочь.