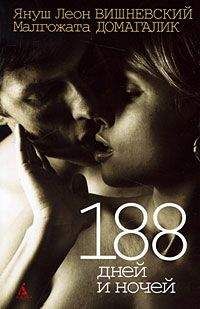Помнишь вердикт, который вынес Суд по правам человека в Страсбурге: парализованная Диана Притти должна умереть естественной смертью? Судебное решение стало «прецедентом», но все знали, что скандал утихнет, только когда Притти перестанет дышать. Решительные противники эвтаназии посоветовали ей отказаться от приема пищи, чтобы прийти к тому, за что она борется. И совесть будет чиста. Во всяком случае, у тех, кто сегодня говорит об опасных последствиях легализации эвтаназии и не видит проблемы в том, что обрекают Притти на страдания. Единодушно.
Трей было тридцать восемь лет, когда она познакомилась со своим мужем Кеном Уилбером. Через две недели после свадьбы у нее был обнаружен рак груди четвертой степени. Они боролись за ее жизнь почти пять лет. Операции, облучение, рецидив, сахарный диабет, химиотерапия, облучение и рецидивы. Самые дорогие клиники, нетрадиционные методы лечения и надежда на спасение. После того как жене был поставлен диагноз, Уилбер написал в своем дневнике: «В любой болезни человек вынужден познакомиться с двумя ее аспектами. Во-первых, он встречается лицом к лицу с течением болезни… Во-вторых, он оказывается наедине с тем, что создают вокруг болезней общество, в котором он живет, и культура, — с осуждением, страхом, надеждами, мифами, легендами, ценностями и истолкованиями. Общество следит за тем, когда и чем ты болеешь; культурная среда, в которой ты живешь, определяет границы здоровья: когда ты здоров, а когда нездоров. Когда же доктор произносит слово „рак“, мы вынуждены бороться не только с собственным страхом, но и с окружением, которое боится его в неменьшей степени. Особенно беспокоит факт, что общество осуждает нездоровье», — пишет Уилбер и замечает, что у каждой культуры свои представления на этот счет. Христианство объясняет болезни Божьей карой за грехи, нью-эйдж убеждает в том, что болезнь помогает нам познать себя. Сколько религий и теорий, столько и объяснений рака.
В книге Уилбера переплетаются его ощущения с записями, которые вела его умирающая жена. «Я всегда задавалась вопросом: что составляет дело моей жизни? Может, я слишком много сил тратила на работу и слишком мало на жизнь? Это объяснение приносит облегчение. Наконец я могу быть собой. Я больше не буду стараться походить на мужчину и начну наслаждаться тем, что я женщина». Перед смертью Трей Уилбер записывает: «Мы были разными, возможно, это касается всех мужчин и женщин. Мы научились это ценить — не только признавать, но и быть благодарными за это. Нашим любимым выражением стала фраза Платона: „Когда-то мужчины и женщины были единым целым, но потом были разделены, поэтому они все время ищут и жаждут единства, называемого любовью“».
Они думали о том, чтобы покончить с собой, спрыгнуть с моста, положить всему этому конец. Но этого не случилось, Трей сдалась, когда у нее обнаружили несколько новых опухолевых узлов и она стала слепнуть. Для того чтобы умереть, ей не требовалось согласия уважаемых докторов, не нужно было отказываться от еды, как Диане Притти. Ты уже видел «Малышку на миллион» Иствуда? Разве человек не должен иметь право на то, чтобы не только достойно жить, но и достойно умереть? Правильно ли, что парализованная молодая боксерша вынуждена откусить себе язык, чтобы умереть от потери крови? Нормально ли, что ей дают оглупляющие лекарства, чтобы она снова не решилась на подобный шаг? И является ли тот, кто решится ей помочь, убийцей?
Малгожата
Франкфурт-на-Майне, вторник, ночь
Малгося,
«расхожие истины…» — пишешь ты в своем письме. И тогда я задумался, а чьи же истины я всегда слушаю с самым большим вниманием, а потом сосредоточенно размышляю о том, что услышал. Для меня теперь существует только один-единственный такой глашатай. Кароль Войтыла, польский римлянин. Я порой не соглашаюсь с тем, что он говорит, но знаю: что бы он ни говорил, он говорит истину. Свою истину. Истина так же относительна, как и все остальное, и проходит проверку, пока мы придерживаемся ее. Войтыла придерживается своих истин. Он — первосвященник Римско-католической церкви, стоит во главе Ватикана, и в связи с этим он еще и политик. Ни один из политиков, кроме него, не говорит правду. Ни там, где я сейчас проживаю, ни в Польше. В политику встроена ложь. Дипломатия — искусство жонглирования враньем таким образом, чтобы «нет» означало «может быть», а «да» было всегда с оговорками.
Политики — это такие люди, которые сначала устраивают шторм на море, а потом начинают убеждать, что только они могут спасти нас от этого шторма. Кроме того, им кажется, что они «авторитеты», потому что все, по их мнению, является политическим. Если старушка сажает цветы на могиле своего мужа, значит, она занимается аграрной политикой и поддерживает тем самым одну из партий. Если дело происходит в Польше, то, вероятнее всего, крестьянскую, в Германии — партию «зеленых». А политический «авторитет» — это тот, кто сам себе присвоил этот титул только потому, что один раз ему подфартило что-то угадать. Как в телеконкурсе, когда спрашивают: «Какого цвета красный автомобиль: черного, красного или зеленого?» Вообще-то я недолюбливаю политиков, хоть и знаю, что и среди них есть достойные доверия люди. Думаю, что таких среди них процентов десять. А остальные девяносто усердно работают над тем, чтобы эти десять свести к минимуму. В последнее время меня не отпускает вопрос, что вообще сподвигает мужчину стать политиком. Поискал немного в библиотеке и в Интернете. Нашел очень интересную книгу американца Гарольда Ласвелла «Psychopathology and politics» («Психопатология и политика»); не знаю, была ли она переведена и издана в Польше. На основе фрейдовского психоанализа Ласвелл пытается доказать довольно неожиданный тезис: в политику идут мужчины, которые хотят компенсировать свои провалы в личной жизни. Стремление сделать политическую карьеру, согласно Ласвеллу, выявляет существование сексуальных нарушений в детстве или отрочестве.
Homo politicus — не кто иной, как пытающийся полученные ранее расстройства компенсировать удовлетворением чрезмерно раздутой потребности в уважении и признании. Стремление к удовлетворению этой потребности — характерная черта фигуры политика. Однако в основе лежат фрустрация и многочисленные комплексы. Поэтому я не могу согласиться с фактом, что именно политики определяют, когда мне умереть, если я не умру естественным образом: в автомобильной аварии, в авиакатастрофе, во время землетрясения, от атипичной пневмонии, от вируса Эбола, от птичьего гриппа, от СПИДа, от магдебургской болезни, от инфаркта, от инсульта, от цирроза печени, от рака легких, от какого-нибудь другого рака или просто от старости (чего себе желаю меньше всего). В последнее время я довольно часто думаю о своей смерти. Существуют пять вещей, которые я хотел бы сделать, прежде чем умру: написать завещание, попрощаться с самыми близкими, съесть последнюю клубнику, улыбнуться всему миру, заснуть. Больше всего я хотел бы умереть, как герой трогательного и надолго остающегося в памяти французского фильма «Вторжение варваров». Но такая идеальная смерть бывает только в кино…
Впрочем, смерть иногда бывает как в совсем другом кино. Особенно когда надо это объяснить тому, кто пока не понимает, что такое смерть. Так, один отец в Германии старается объяснить своей трехлетней дочке Ангелине, что он скоро умрет. Он делает это публично, в газетах, чтобы помочь другим отцам, которые, возможно, находятся в похожей ситуации. Дочка пока не умеет читать, а когда научится, ее отца уже несколько лет как не будет на свете. Томас живет в Потсдаме, и в его мозгу со страшной скоростью растет глиобластома, и никакими силами не удается остановить ее рост. Томасу тридцать один год, и если не будет никаких осложнений, то жить ему осталось максимум три месяца. Если появятся осложнения, тогда его жизнь может сократиться до трех недель. Ему повезло (согласись, что слово «повезло» — многозначное слово), что он не потерял способности говорить. «Подсолнух растет так: сначала зернышко, потом стебель, а потом распускается прекрасный цветок. Вот такой же цветок растет и в моей голове. Когда он вырастет, я буду должен уйти», — рассказывает Томас своей дочке Ангелине. «Куда?» — спрашивает Ангелина. «Поискать другой цветок, — рассказывает Томас. — Эти поиски будут долгими-долгими…» — добавляет он. У смерти есть много разных сценариев… И это совсем не кино.
Вернемся, однако, к эвтаназии в политике. Знаю я и Уилбера, знаю и Оутс, помню также и ставший прецедентом (то есть определяющим принятие решений в будущем) вердикт Страсбургского суда. Не я этих судей выбирал. Однако из моих налогов они получают жалованье (свыше десяти тысяч евро в месяц), это я оплачиваю их судейские мантии и служебные полеты в бизнес-классе в Страсбург. Иными словами, в определенном смысле я тоже причастен к их вердиктам. В том числе и вердикту по делу Дианы Притти. Право на смерть должно быть равнозначным праву на жизнь. Если кто-то выступает за неограниченное право на жизнь от первого деления клеток в зиготе (Церковь, например), то он же (тоже Церковь), по идее, должен поддерживать и неограниченное право на смерть. Признание за мной свободной воли умереть гораздо выше, чем признание за мной несвободной воли родиться, которая к тому же вовсе не моя, а кого-то поначалу совершенно мне чуждого (кроме генов), воля моих родителей. Итак, почему же, в сущности, чужая воля должна быть для меня более важной, чем моя собственная? Мне это непонятно. Эвтаназию я поддерживаю, как и большинство голландцев, проголосовавших за нее. Иногда я думаю, что жизнь «за дамбой», ниже уровня моря способствует умственному развитию. Голландцы живут «за дамбой» и имеют одно из умнейших законодательств в мире. Может, если бы вся Польша располагалась на Жулавах,[70] мы были бы более мудрым народом? Интересная тема для социологов и антропологов, не считаешь?