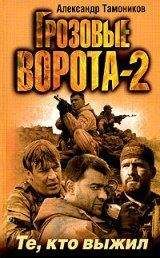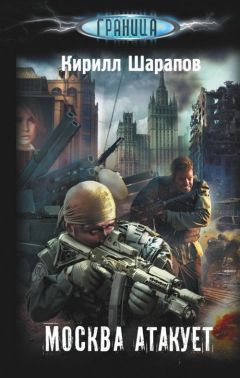– В лагере, – сказал Соколовский, сказал это вдруг повинно, хотя не знал за собой вины. -На Слободке.
– Бежал?
Соколовский посмотрел на покатую, в засмальцованной спецовке спину Дзюбы. Сейчас машинист уличит его во лжи.
– Выпустили. Я Дзюбе сказал, что бежал, а нас выпустили. Вчера…
Наступило затрудненное молчание. Дзюба, конечно, успел шепнуть Крыге: «Там Соколовский Иван, инженер, бежал из лагеря…»
– Я правду говорю: вчера немцы пять человек выпустили. Мы и сами толком не поняли, вроде хотят, чтобы мы в футбол играли… – Ему самому эта затея теперь казалась странной и неправдоподобной. – Такая вот чертовщина. Я Дзюбе и сказал, что беглый…
Неожиданно вблизи раздался окрик:
– Du! Feuer![13]
Оба замерли. Густые брови Крыги поднялись удивленно и досадливо: как же это он не слыхал приближающихся шагов? И Дзюба не подал сигнала.
Немец взбирался на паровоз. Подошва, подбитая гвоздями, железно скребнула по ступеньке. Из своего укрытия они увидели схватившуюся за поручень руку.
Дзюба открыл топку, пальцами выхватил раскаленный уголек и, перекидывая с ладони на ладонь, поднес солдату.
Тот наклонился, прикуривая. С тендера была видна его пилотка.
– О-о! Gut! Ganz gut! – сказал немец. – Ein Kunststück![14] Слышно было, как солдат спрыгнул и стал удаляться, громко раскуривая трубку. В будке охал, матеря немца, Дзюба. Крыга в задумчивости пожевал рыжеватый ус.
– Да-а, немец такой… с выбриками; ему волю дали, он и чудит. Бордели пооткрывали, поганцы.
– Футбол – к чертовой матери! – То, что Крыга, узнав о футбольной затее, вспомнил вдруг публичные дома, окончательно убедило Соколовского, что лучше помалкивать о том, зачем их выпустили за лагерные ворота. – Хлопцы бежать хотят, а мне вроде нельзя. Мне, Григорий Евдокимович, бежать нельзя, о другом был уговор, вы знаете… – Соколовский говорил тихо, со спокойной решимостью. – Я был оставлен в городе…
– Знаю.
– Ну вот, – Соколовский облегченно вздохнул.
– К нам как попал? По мосту?
– Нашел лодку. – Он достал из-за спины свернутую сетку со снулой уже рыбой. – Рыбачил… Обошлось. Сам не верил в удачу, а вроде обошлось.
Крыга снова вгляделся в него из-под крутых надбровий насквозь нижущим взглядом.
– Батько там? – он взмахнул рукой, что означало – по ту сторону фронта.
– Дворничиха сказала – все там. Если доехали.
Что-то непривычно скорбное мелькнуло во взгляде мастера. Видимым усилием он прогнал от себя донимавшую его мысль и положил руку на плечо Соколовского.
– Доехали. Не всем же бедовать… Доехали! Ты верь, Иван, без веры и жить трудно. – Он сощурился, некрасиво оттопырив губы. – И там нелегко – хлеб нужен, а где его сеять? Сколько уже земли под немцем! Он к фронту эшелоны гонит, танки, машины, орудия, много металла надо нашим, чтобы немца остановить! Ой, много!
Молодые на фронте, теперь деды в гору пошли, и Соколовский где-нибудь мастером в цеху. Он без дела не засидится.
Старинные друзья, Соколовский и Крыга всю жизнь называли друг друга по фамилии.
Они умолкли, и каждому по-своему представился тот далекий и неведомый цех, с запорошенными железной пылью, затемненными гарью окнами, в блеске металлической стружки, в гуле и грохоте, с подвижной тенью мостового крана, в сполохах электросварки, – заводской цех, в котором работает высокий бородатый старик, седоволосый, с лицом апостола.
– Помнишь городскую больницу? – спросил Крыга. – Там в тылах со стороны Садовой калитка. В шесть часов пойдешь туда, скажешь сторожихе: «У меня передача для тети Маши». – Он исподлобья изучал Соколовского. – Вот оно как, Ванятка: у смерти в зубах погостевал, а живой! Такое отпраздновать бы надо, а не до праздников, отложим. – Уже не опасаясь обидеть Соколовского недоверием, открыто дивился: – Живой от самого Хельтринга ушел – чудно, верно?
Теперь и Соколовский спокойнее пригляделся к Крыге Все-таки старик очень изменился: непомерная голова на похудевшей мальчишеской фигуре, парусиновая куртка захлестнута в талии ремнем, чтоб не болталась, как на жерди.
– Возьмите рыбу, – Соколовский протянул ему улов.
– В больницу отнесешь.
– Берите. На обратном пути еще наловлю, придется ловить, раз в рыбаки вызвался.
Крыга выбрал двух окуней и сунул их в карманы штанов. Постоял, прислушался к чему-то и сказал с улыбкой:
– Хорошо, ты мне живых щук не подсунул… Щука злая, як фриц, мигом лишнее отхватит…
Он ушел с паровоза таким же балагуром, каким и появился тут полчаса назад.
Дзюба дал задний ход. Паровоз тихо покатил по рельсам к сосновой роще. Соколовский был уже в будке; он сунул оставшуюся рыбу в сумку Дзюбы и молча спрыгнул вниз на потемневший от мазута песок.
Сосны были рядом.
Улица недаром называлась Садовой. Соседствуя с центром города, она была неширокой, погруженной в патриархальную дремоту, усугубленную теперь безлюдьем и отсутствием машин. Узкие тротуары под сенью лип, тополей и акаций, палисадники, палисадники, палисадники, а за ними одноэтажные дома в затейливой резьбе наличников.
Замшелый забор ложился веером то внутрь больничной территории, то наружу, к кустам отцветшей акации. На Садовую выходили служебная калитка и скорбные ворота, через которые раньше увозили покойников из морга. Теперь эти ворота и флигелек за ними сделались единственными для жителей города – вся территория больницы с просторными корпусами и асфальтированными дорогами была занята под военный госпиталь. Попав на больничный двор со стороны Садовой, Соколовский обнаружил, что узкая полоса с флигелем и двумя старыми бревенчатыми домами отделена от каменных корпусов оградой из колючей проволоки, с калиткой, охраняемой часовым.
Длинные тени уже легли от домов на запущенные клумбы, обметанные тополевыми сережками и пухом. Двухэтажный зеленый флигель смотрел на Соколовского бельмами закрашенных окон.
На крыльце появился человек: полотняная ермолка, вроде тех, что мастерят себе из бумаги маляры, больничный халат, сапоги, большие красноватые руки санитара.
Он молча кивнул Соколовскому и прошел по сумеречному коридору в конец дома. Прикрыл за Соколовским дверь врачебного кабинета и протянул ему руку.
– Здравствуй, Соколовский. – Потом представился: – Глеб Иванович. А лучше просто Глеб.
Соколовский выпустил тяжелую руку и присмотрелся: большие навыкате глаза в белесых метелочках ресниц, энергичное, грубоватое, крепкой кости лицо.
– Не узнаешь? – Глеб Иванович улыбнулся, открыв крупные, без зазоров зубы с золотой коронкой в нижнем ряду. – Добро, что и ты меня не узнаешь…
Кто же он? Соколовский напряг память: нет, не вспомнить.
А тот простодушно радовался, что Соколовский не узнал его. Они одновременно заметили какое-то движение за окном: часовой открыл калитку в проволочной ограде, и тучный офицер медлительно проследовал сюда с территории военного госпиталя.
– Выйди в коридор, – сказал Глеб. – Там скамья. Сиди спокойно.
– А если спросит?
– Он не спрашивает. Ты его нисколько не заинтересуешь. Это странный человек, но не худший из них. И не без бога. Иди.
Офицер прошел мимо Соколовского, астматически дыша. Военный врач. Высокий, с необъятной грудью и массивной, клонящейся вперед головой. Он, конечно, заметил Соколовского, но не обратил на него ни малейшего внимания.
Глеб приветствовал офицера по-русски, и тот ответил ему на ломаном, ужасающем русском языке. Прислушиваясь, Соколовский подумал, что доктор явился без какой-либо определенной цели: он помалкивал, вздыхал, даже в коридор доносилось его тяжелое, с присвистом дыхание.
Соколовский приник к маленькому глазку – кто-то соскреб краску с застекленной перегородки. Видно было, как доктор не спеша вынимает из внутреннего кармана мундира коробочки с лекарствами.
– Это кладет… в холод, – сказал он, осторожно водворяя на стол плоскую коробку, в которой, по-видимому, были ампулы. – Сделайт его холодно…
– Не знаю, как и благодарить вас, – сказал Глеб Иванович, пряча лекарства. – Денег вы не возьмете, да и какие у наших больных деньги… Бог отплатит вам, доктор.
– Деньги – нет. – Он усмехнулся. – Лючше бог! Скоро доктор Майер рандеву с бог… Один рандеву на вечность…
– Доктор Майер, -сказал Глеб, -наш санитар Грачев забирает к себе домой сироту из третьей палаты.
– Он есть милосердный шеловек.
– У Грачева нет кровати, а у нас в сарае много старых, ржавых, они не годятся для больницы…
– Глеб Ивановитш, – произнес Майер с благородной торжественностью.- Ви сказаль много слова. Зашем? Много слова есть немецкий… gewohnheit! Как сказайт это слова?
– Привычка, – перевел Глеб.
– Да, привичка. Нужен кровать – разрешаю!