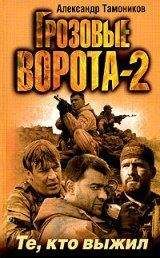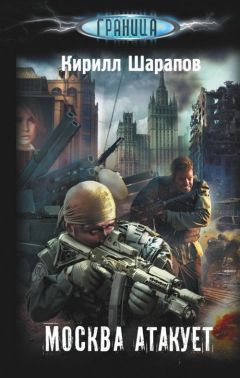Рухнув, он открыл двор в новой, жесткой перспективе. Двухэтажное оштукатуренное здание посреди двора наклонилось назад, словно отпрянуло, кое-как держалось, без стекол, перекошенное, обезлюдевшее, с распавшимися звеньями деревянных лестниц и обнаженными стропилами.
Кирпичный флигель в глубине двора был цел, но, подойдя поближе, Скачко увидел темные трещины в стенах, бревенчатые подпорки и деревянные, наподобие шахтных, крепления парадных.
Навстречу изредка попадались люди. Две старухи, девушка, угрюмая и неопрятная с виду, бородач, с трудом волочивший связанные ремнем обрезки досок. Все чужие, незнакомые Мише люди. Настороженным взглядом скользили они по его лохмотьям.
Так и не встретив знакомых, он поднялся на второй этаж. В нос ударили затхлость нежилого помещения, запахи нечистот, известковой пыли и прелого войлока.
Входные двери сорваны с петель и унесены. Квартира открылась ему почти вся через провалы в стенах и дверные проемы. Кое-где обвалился потолок, и закатное небо недобро рисовалось вверху сквозь рваное железо крыши.
Он прошел внутрь квартиры, спотыкаясь о кирпичи и штукатурку, как слепой, протянув вперед дрожащие руки.
Пусто. Ни стула, ни случайно оброненной книги. Еще не зная зачем, просто чтобы не закричать, он начал стаскивать кирпичи в одну из комнат. Работал с тупым упорством, как будто из этих облепленных известкой кирпичей можно было построить мост к близким, к былой жизни. Потом что-то вонзилось в палец, и укол отдался мгновенным ознобом во всем теле. Комсомольский значок! Миша подумал было, что значок его, но вспомнил, что его значок был на винте, а этот с припаянной булавкой. Он потер пыльный значок о лацкан пиджака, и эмаль налилась багрянцем.
Это значок Зины, сестры! Зина, наверное, вступила в комсомол еще в сороковом году, в девятом классе.
Два последних предвоенных года он жил как в лихорадке: спортивные успехи, призыв в армию, частые поездки с лучшей в городе динамовской командой, а здесь, в городе, Саша Знойко, девушка с черными шелковыми бровями, которые смешно шевелились и, как две пушистые гусеницы, казалось, вот-вот уползут со светлого лба. Семья привычно была рядом, но словно забытая им, он и не заметил, как выросла сестра, а теперь ее нет, как, верно, нет и Саши, ничего нет, кроме развалин и мусора…
Миша сунул значок в карман и сел на сложенные им кирпичи. Он долго просидел бы так в оцепенении, не зная, куда податься, и еще даже не думая об этом, но в дверях вдруг показался высокий мужчина в синей бумазейной куртке и полосатых брюках, заправленных в кирзовые сапоги. Седые волосы, как ссохшаяся мыльная пена облепившие подбородок и шеки, усы – погуще, с рыжинкой, лысая голова. В припухлости губ что-то знакомое.
– Миша?
В воспаленных глазах человека вспыхнул мгновенный интерес и тут же погас.
Бог мой! Да ведь это Знойко, отец Саши, «первая бритва города», по собственному его шутливому уверению, всегда аккуратный, в галстуке бабочкой, выбритый до январской морозной свежести! И вдруг седой мешковатый старик…
– Василий Иванович!
Знойко смотрел настороженным взглядом крупных, рысьей посадки глаз то на Скачко, то на свисавшую со стен обойную рвань и молчал.
– Что здесь случилось? – спросил Миша. – Почему вы молчите?
– У нас спрятано кое-что из твоих вещей. – Знойко как будто не слыхал вопроса. – Ты зайди…
– Где все мои?
Скачко сдерживал рвущийся из груди крик: казалось, если испугать Знойко, он убежит и никакая сила не заставит его снова подняться сюда.
– Василий Иванович, голубчик! Скажите же, не мучайте меня…
Старик шагнул к испуганному, обмякшему Мише, обнял его и близоруко, близко разглядел его нечисто стриженную голову.
– Ты из лагеря? – с неожиданной догадкой спросил Знойко и отступил на шаг. Как же он сразу не понял! Ведь так могли стричь только в лагерях, в этом новом мире, где нет ни мастеров, ни зеркал, ни машинок для стрижки, ни даже приличных ножниц. Знойко засуетился. – Сейчас… Я принесу… Надо переодеться… Они ведь всех перестреляют. У них это быстро…
Но он не уходил, как будто страх пригвоздил его к месту.
– Меня отпустили! – Миша подосадовал на себя за минутную слабость. – Слышите? Я с пропуском, не бойтесь.
– Их расстреляли, – сказал Знойко, еще не отойдя испуганным сердцем. – Вон там, – он показал на соседнюю, проходную, комнату. – Маруся видела. С того дня она и стала седеть…
Женский голос снизу окликнул Знойко, а Миша смотрел мимо него, на стену, в которую должны были войти пули, убившие его близких.
Торопясь, Знойко рассказал подробности. Когда гестаповцы поволокли по коридору больную старуху еврейку, соседку Скачко, отец Миши стал их ругать, потребовал старшего офицера. Обыскали квартиру и нашли китель Миши. Отца и мать расстреляли не уводя, Зиночки дома не было – она уцелела. Полгода жила внизу, в комнате учителя Грачева.
– …Хороший человек Грачев. – Знойко прислушивался к приближавшимся осторожным шагам. – Как отец смотрел за Зиночкой. Потом управа объявила набор в медицинский институт, обещали паек, льготы… и тут обманули. Им молодых собрать надо было, молодые прячутся. В первый же день похватали студентов – и в Германию. Это Маруся идет… – шепнул он. – Раньше лестница под ней дрожала, а теперь, слышишь, идет тихо, как ветерок…
Но Миша не слыхал ни шагов, ни озабоченного, призывного бормотания жены Знойко: «Васенька, Васенька!…»
В комнату вошла темноволосая стройная женщина с резкими полосами седин.
– Васенька… – повторила она, но, узнав Мишу, кинулась к нему. – Господи! Родной ты мой! Жив! Жив! – Обняв его и раскачиваясь всем телом, она продолжала с укором: – Говорила, он жив, а ты не верил. Ты ни во что хорошее не веришь, Вася… – Вдруг она заголосила, прижимая Мишу к плоской, пахнущей керосином и луком груди: – Сиротинушка!
Снизу поднимались встревоженные соседи. Темнело, и в густых сумерках Миша никого еще не узнавал.
– Это Михаил! – взволнованно объясняла Знойко. – Миша Скачко! Хозяин квартиры…
– Хозяин пришел, – с облегчением обронил кто-то в темноту коридора. – Скачко.
– Обживется, – сказал хрипловатый женский голос. – И мы не в хоромы въезжали.
– Бачишь, кирпич собрал, стол себе сделал. Теперь хоть гостей зови: скорый на руку! – Голос незнакомый, тонкий и какой-то равнодушный, без страсти.
– Ах ты, пес! – крикнула женщина. – Ты ж по всему кварталу мебель награбил. Стулья, столы до потолка, як в комиссионном, стоят… А человеку кирпича жалеешь. На, возьми, подавись ты… – Она наклонилась, схватила кирпич и бросила в ноги коренастому человеку. – На, собака! На, ненажора!
Человек отскочил.
– Пусть селится, – сказал кто-то примирительно, – крышу починит, и нам лучше будет…
Послышался тревожный шепот:
– Из лагеря бежал… бритый…
– Разрешение управы нужно, – настаивал коренастый, ловко вытирая сапог о штанину. – Документ. Без документа нельзя.
Миша подошел к нему и всмотрелся в широкоскулое лицо. Человек глядел на него внимательно, без страха.
– Ты шумишь, сволочь? – прохрипел Скачко, чувствуя, что сейчас схватит кирпич и ударит плашмя, как по стене, по этому плоскому лицу.
У человека не дрогнул ни один мускул.
– Распустились при большевиках…
Скачко ударил его кулаком. Широкое лицо качнулось в сторону и куда-то исчезло. Человек присел. Потом послышался топот на лестнице и резкий фальцет:
– Рятуйте!
Жизнь запутывалась. Скачко плохо различал оставшихся в комнате людей – они шарахнулись ъ стороны, под прикрытие стен.
– Где Саша? – спросил он неожиданно.
– В субботу она во второй смене, – ответила Знойко, одна попрежнему стоявшая рядом с Мишей и смотревшая на него с сочувствием и сожалением. – Саша на швейной фабрике работает, это через весь город идти, – объяснила она.
– Р-я-атуйте!… – донеслось уже с улицы.
Только теперь Миша почувствовал, как больно он ушиб пальцы. Кто-то положил ему руку на плечо – рядом оказался человек с суровым, аскетическим лицом. Скачко угадал его скорее сердцем, чем глазами.
Грачев!
– Пойдемте ко мне, Миша. – Грачев сжал пальцами его плечо и подтолкнул Скачко к выходу. – Мне нужно рассказать вам о Зине… – Его суровый бас неожиданно дрогнул, смягчился. Грачев кашлянул по-стариковски, взял Мишу за руку. – Шагайте за мной. – Он ощутил неуверенность Миши. – Пошли! Ничего, держитесь крепче.
Послушный сухой, холодной руке, Скачко двинулся к лестничной площадке, затем вниз, в комнату бывшего учителя истории. Рука у Грачева оказалась сильная, грубая, с жесткими буграми мозолей.
– …Зиночка многому меня научила, сама того не подозревая. И я скорблю о ней, вероятно, больше вашего, глубже, что ли… Вы не обижаетесь на меня? – Миша избегал взгляда Грачева и, лежа, с хмурым безразличием разглядывал комнату. – Ну и ладно, и хорошо… Если это только не равнодушие ко всему на свете, – добавил он требовательно. – Теперь и с этим сталкиваешься.