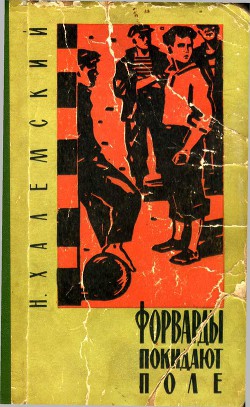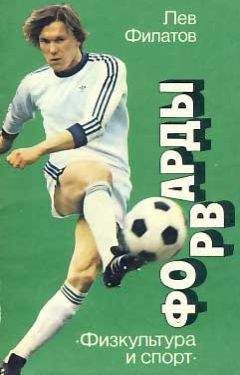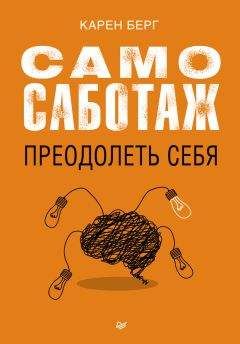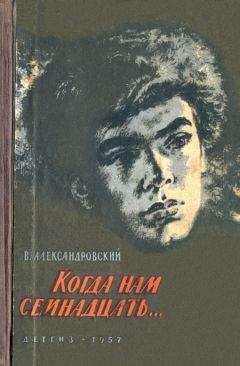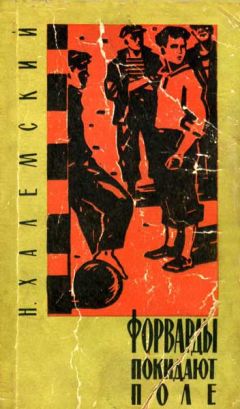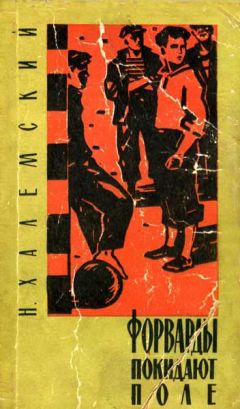Честно говоря, на уроках пения в школе учитель обычно просил меня молчать, потому что своим голосом я нарушал общую гармонию хора и пугал окружающих. На меня собственный голос не производил удручающего впечатления, а сейчас даже кто-то подхватил за моей спиной: «О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы смело в бой идем».
Это Степка-точильщик, взбираясь на горку, приветственно помахивал рукой. Я остановился. Степка выше меня ростом, но сложением похуже: покатые узкие плечи, впалая грудь и не в меру длинные руки. Батькин старый картуз закрывает его широкий лоб, под которым светятся удивительно ясные, как у девушки, васильковые глаза. Глаза словно чужие на этом небрежно вылепленном лице, но они придают ему доброе и мягкое выражение, делают привлекательным.
— Привет безработному! — улыбнулся Степка, пожимая мне руку.
— Проспал, старина! — Притянув Степку к себе, я толкнул его рукой в плечо, выражая этим свою нежность.
— А куда спешить? Факт, еще натопчемся в «змейке».— Так называли очередь на бирже труда.
Снова полил дождь. Степка полез под мою накидку. Мы топали нога в ногу по вязкой грязи и здорово промокли, пока дошли до Московской. «Змейка» еще не очень растянулась, но под дождем пришлось мокнуть добрых полтора часа до открытия биржи труда.
Было холодно, от голода сосало под ложечкой.
— Вот гады, хоть бы дверь открыли...
— Не ворчи,— незлобиво отозвался Степка.— Только пришли, а ты уже ноешь. На, закури,— и протянул кисет с самосадом.— Чудак ты, Вовка, факт! Все жалуешься и ноешь, а того не поймешь слабым умишком, что придет такое время, когда тебе, оболтусу, никто не поверит, будто ты на бирже труда под дождем выстаивал. «Биржа труда? — скажут. —Что это за диковина?»
— Ну, пошел молоть Точильщик,— махнул я рукой.— Без биржи не проживешь в двадцатом веке. Ее знаешь когда закроют? — Я жестом продемонстрировал, какая к тому времени у меня вырастет борода.
Меня бесила его слепая убежденность, а он приходил в ярость от моих возражений.
— Я тебя, Вовка, не буду ругать за глупые слова, ведь факт — ты в детстве хворал желтухой и рахитом, а от них на всю жизнь остается того...— Он постучал пальцем по своему темени.
— Я, кроме свинки, ничем никогда не хворал.
— Хрен редьки не слаще, факт. После такой штуковины если дите выживет, у него на всю жизнь остается поросячий ум, факт!
Те, кто стоял поближе к нам, рассмеялись. Я пожал плечами:
— Пижон несчастный! С тобой свяжись... Бреши дальше.
— Мой батя зря говорить не станет, факт,— аппетитно затягиваясь дымом самокрутки, серьезно и зло бросил Степка.— Через несколько годков биржи и в помине не будет.
— Куда же мы по утрам ходить будем? — вмешался в разговор пожилой человек в синей поношенной спецовке.
— Куда? — переспросил Степка.— На работу. Хватит баклуши бить.
— На всех, сынок, работы не напасешься.
Обжигая пальцы окурком, Степка в последний раз затянулся, цыкнул сквозь зубы и швырнул «бычок» в лужу.
— «Не напасешься»,— насмешливо повторил он.— Вот сгореть мне на этом месте — объявления на всех столбах и заборах будут приглашать кузнецов, каменщиков, жестяников, слесарей. Даже чернорабочих днем с огнем не сыщешь, факт!
— Фантазер,— снисходительно сказал человек в спецовке. Лицо Степки приняло оскорбленное выражение, но тут сторож открыл наконец дверь, и толпа хлынула в помещение биржи. Каждый стремился устроиться на одной из немногочисленных скамеек — ведь в этом прокуренном и душном зале предстояло провести несколько часов.
Нам удалось пробраться почти к самому окошку секции подростков. Рассевшись на полу, мы принялись играть в подкидного дурака. Старые, потертые карты Степа всегда носил с собой. Каждый из нас охотно играл с ним в паре — он умел оставлять в дураках противника с четырьмя тузами и козырным валетом на руках. Но сегодня я играл нехотя: никакие карты не могли заглушить дьявольского голода. Почему люди, создавшие аэропланы, пароходы и паровозы, не изобрели пилюль, утоляющих голод? Вот было бы здорово! Ведь большинство обитателей нашей планеты бьется из-за куска хлеба, испытывает постоянный голод. Вот благодать была бы на земле! Захотел свиную отбивную — вынь из кармана пилюльку, проглоти и знай поглаживай живот... В голодном состоянии я становлюсь мрачным и даже опасно злым, в такие минуты со мной лучше не связываться. Свойство иных людей сохранять, несмотря на голод, веселое и бодрое настроение остается для меня загадкой. Иногда мы по три-четыре часа гоняем в футбол, есть после беготни хочется ужасно, и чуть кто из ребят раздобудет какую-нибудь снедь,— все набрасываются на нее, как саранча, а Степка сохраняет олимпийское спокойствие и даже отдает мне половину своей доли. Правда, я тоже не остаюсь у него в долгу, и с недавних пор после каждой тренировки Степка получает от меня небольшой кусок настоящей копченой колбасы и ломоть свежего ржаного хлеба. Однажды, после многочасовой тренировки, невероятно голодный, а значит и злой, я попросил у господина Куца,— хозяина бакалейной лавочки,— в долг полфунта колбасы и фунт хлеба. Куц отказал, он усомнился в моей платежеспособности. Такого я не мог ему простить. Заметив на подоконнике пани Вербицкой мирно дремавшего кота, я похитил его. Юрка Маркелов сбегал домой и принес бутылку со скипидаром. Хлопцы крепко держали кота, пока я вводил ему скипидар и присыпал солью. Затем, открыв дверь лавки, мы бросили туда кота. Мгновенно раздались душераздирающие вопли мадам Куц. Мадам была женщиной болезненной и весьма сварливой. Я решился приоткрыть дверь. Хозяин и хозяйка позорно бежали, не выдержав бешеной атаки кота. Его самого также не было. На полу валялись разбитые бутылки с вином, уксусом, растительным маслом, па полках был полный разгром. Керзон предложил было воспользоваться отсутствием хозяев, его поддержал Славка Корж, но я решительно воспротивился беззаконию.
На следующий день меня вызвали на общественный суд жилкоопа. Заседания происходили в квартире пани Вербицкой. Я не раз уже бывал здесь, и вся эта процедура была мне знакома. В ожидании, пока председатель суда огласит обвинительное заключение, я без особого интереса рассматривал богатую обстановку, редкий хрусталь в горке и дорогие вазы. Очень нравилась мне высокая, в половину человеческого роста ваза с изображением нагой женщины, склонившейся над младенцем. Я даже отвернулся в смущении, но какая-то тайная сила тянула снова взглянуть на нее. Юрка Маркелов, также привлеченный к суду, толкнул меня в бок. Толчок был настолько неожиданным, что я, не удержавшись на ногах, свалился на тумбочку, и чудесная ваза грохнулась об пол и разбилась вдребезги. Я был в отчаянии. Честное слово, меня нисколько не пугал предстоящий суд — не мог же я отвечать за поведение какого-то кота. А суду нечего становиться на защиту нэпмана Куца — так и скажу! Но теперь, когда я разбил такую бесценную вазу, оставалось только бежать. Скрылся я на Черепановой горе, затем допоздна торчал па стадионе, наблюдая за легкоатлетическими соревнованиями, и лишь в сумерки поплелся домой, размышляя о предстоящей взбучке.
Лавочник Куц вырос предо мной совершенно неожиданно. Он благожелательно ухмылялся и манил меня пальцем.
— Послухай, Владимир, ты же знаешь — у мене добрая душа. Я сам в детстве был башибузуком, и мой покойный папаша, пусть ему не икается на том свете, так хлестал меня по этому самому месту,— Куц четко очертил границы пониже спины,— что и сейчас в сырую погоду имею чувствительность.
Лавочник положил мне руку на плечо и черным ходом повел к себе, в комнатушку за лавкой.
— Покойный папаша,— продолжал Куц,— мог меня бить. Попробовал бы он справиться с тобой! Бог свидетель — ты похож на ломовую лошадь.
Мадам Куц встретила меня без всякого восторга, больше того — я прочел в ее глазах жгучую ненависть. Но хозяин не дал ей промолвить и слова.
— Ева,— сказал он угрожающе,— ребенок хочет кушать.
— Если он подавится вместе с тобой, я ничего для вас не пожалею,— отпарировала мадам.