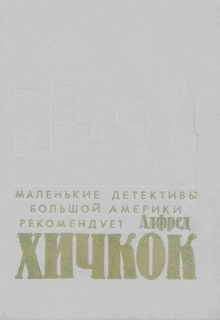– Позвоните мне, если выберетесь этим летом на остров. – Президент дружески подмигнул сенатору. – Сыграем партию.
В коридоре Президент повернулся ко мне:
– Вы были слишком резки. Такие вещи делаются тонко.
– Мне следовало быть осмотрительнее.
– Вы полны желания добиться цели, – заметил он.
– Наверное.
Он спокойно смотрел на меня:
– Вас поэтому ко мне направили?
Я задумался над ответом.
– Вы хотели, чтобы вас ко мне направили? – спросил Президент прежде, чем я успел ответить.
– Нет, – сказал я. – Не хотел.
Я думал, что тут он что-нибудь скажет, но мы шли к машине молча. Тем не менее я взглянул на его лицо. Президент смотрел прямо перед собой, но в морщинках у его глаз появилась заметная складочка улыбки.
Мы не полетели регулярным рейсом на Нью-Йорк. Предания Корпорации гласили, что много лет назад в деловом полете Моррисон и Президент сидели в обычном салоне самолета, когда оторвался двигатель на крыле за иллюминатором Президента. Просто взял и отвалился. По рассказу Моррисона, Президент, смотревший в окно, видел, как это произошло. Он наблюдал за тем, как гигантский сверкающий турбореактивный двигатель падает, оторвав от крыла полосу металлической обшивки и оставив под крылом только исковерканное крепление. Президент посмотрел на часы, хладнокровно отметил время, повернулся к Моррисону и сказал:
– Если до сообщения капитана пройдет больше тридцати секунд, я больше никогда не буду летать.
Безымянный капитан сообщил об экстренной посадке только через четыре минуты, так что лимузин Президента доставил нас к «Метролайнеру», где мы прошли через таинственный боковой вход в задней части Юнион-Стейшн; минуя всех остальных пассажиров, стоявших за стеклянными дверями, мы попали прямо на платформу. Я догадался, что, конечно, «Амтрак» предусмотрел тайные входы для президентов, глав государств, крупных игроков. К тому времени, когда остальные начали посадку, мы уже заняли места.
– А почему не на вертолете? – спросил я. – Вы иногда им пользуетесь.
– Не люблю летать на них ночью, – объяснил Президент, морщась. – Большой риск. Вспомните, что случилось с сенатором Хайнцем и теми, кто работал на Трампа.
Мы устроились в полупустом вагоне с баром. Президент закурил и налил себе две мини-бутылочки шотландского виски, не разбавляя. Он дожидался этого целый день, и после первого глотка его лицо удовлетворенно размякло. Вокруг нас сидели другие пассажиры – в основном мужчины в костюмах. Некоторые пили и смеялись, другие негромко говорили что-то в телефоны, кое-кто смотрел в ноутбуки. В каждой группе я моментально находил лидера. Обычно он был самым старшим, и часто один из более молодых мужчин наблюдал за ним с пристальным вниманием. Такое иногда происходит среди мужчин. Столь многим из нас втайне отчаянно нужны отцы – даже когда мы достигаем среднего возраста. И часто мы находим их на работе.
– А мы действительно сможем заставить этих бразильских полковников не трогать наш чертов спутник? – спросил Президент.
Но, не дав мне времени на ответ, он пожал плечами. Это не имело значения. Кто-нибудь другой отыщет для Корпорации выход: я, Билз, Саманта, лоббисты, отдел по связям с общественностью – кто-то из нижестоящих. Президенту достаточно было только упомянуть о партии в гольф в разговоре с председателем сенатского Комитета по международным отношениям. Сейчас вся его работа, в сущности, заключалась именно в этом.
– Ну, Джек, расскажите мне о себе, – сказал Президент, ослабляя галстук и глядя в окно. – Кто вы, черт возьми, такой?
– Ну, – начал я, польщенный этим вопросом, – вы, наверное, знаете, что моя должность – вице-президент...
– Нет! Пожалуйста, не надо. Расскажите мне что-нибудь интересное, ради бога! – сказал Президент, помахав рукой. – Скажите, почему такой видный мужчина не женился снова.
Я повернулся к нему:
– Вы знаете о...
Он кивнул:
– Конечно.
– Вы знаете, что случилось с Лиз?
– Да. Мне сказали на следующий же день.
– На следующий день? – изумленно переспросил я.
– Я все еще кое-что знаю о том, что происходит в моей компании. – Он многозначительно улыбнулся. – Ну, так вернемся к моему вопросу: скажите, почему такой видный мужчина не женился снова.
– Не нашел подходящей женщины.
– Значит, у вас есть интрижки, – решил он. – Отличное старое слово «интрижки». Девица, комната в гостинице, сигарета у окна, закуски в номер.
Я попытался угадать, что в эту минуту делает Долорес. Может быть, укладывает Марию в кровать. А может – что-нибудь еще.
– У меня сейчас слишком много работы, – осмотрительно отозвался я.
– О, это не годится! – воскликнул Президент. – Жизнь коротка. Как-нибудь я изложу вам мою теорию интрижек. – Он негромко рассмеялся. – Как-нибудь. Однако я из вас ничего не могу вытянуть. Расскажите мне о вашем отце. Такие люди, как вы, любят говорить о своих отцах.
– Это неприятная тема.
Он поднял стакан и встряхнул виски, разглядывая его на свет.
– Почти все темы такие.
Выпивка привела его в приятное расположение духа, и ему хотелось, чтобы его развлекли. Позабавили. И я рассказал ему о моем отце, который уже больше двадцати пяти лет жил в одном и том же маленьком, обветшавшем, обшитом досками доме на севере штата Нью-Йорк – несчастный, склонный к самокопанию мужчина. Он не старался привлечь внимание посторонних к своему одиночеству и заброшенности, но эта аура окружала его, словно мешковатая куртка. Когда ему было двадцать лет, моя мать из-за аккуратного пробора в его волосах решила, что перед ней – мужчина с будущим. Так она мне рассказывала. Когда мне было четыре года, она попросила у моего отца развод.
– Она вышла замуж снова? – спросил Президент.
– Тут же.
Моя мать, рассказал я ему, была достаточно молодой, чтобы изменить свою жизнь. Она взяла меня с собой в большой дом своего нового мужа Гарри Маккоу, толстопузого мужчины, который безоговорочно полюбил меня. Мой отец, который в тот момент учился в семинарии, согласился на развод с одним условием: фамилия его сына останется прежней.
– Мой отец, Чарльз Уитмен, был прямым потомком Уолта Уитмена, – сказал я. – Он назвал меня в честь первого Уитмена, появившегося в Америке, – Джона Уитмена, жившего с 1602-го до 1692 года и приплывшего из Англии в 1640 году на корабле под названием «Истинная любовь».
Бородатый великий поэт был гомосексуалистом и не оставил потомства, по крайней мере такого, которое носило бы фамилию Уитмен. И это имя было единственной собственностью моего отца, имевшей хоть какое-то отношение к величию поэта. Больше ничего он мне дать не мог. Когда мне было лет семь, он показал мне полку, на которой хранил различные издания «Листьев травы», основных биографий и толстый томик «Карманного Уитмена». Позже он зачитывал мне сделанное поэтом трогательное описание старинного кладбища Уитменов на Лонг-Айленде. («Вот откуда ты родом, Джек, – сказал мне отец, – и ты должен всегда об этом помнить».) Читал он мне и рассказы Уитмена о выхаживании солдат, раненных во время Гражданской войны. Позднее отец настоял, чтобы я прочел длинные стихотворения. Только тогда я понял, почему отец потребовал, чтобы я сохранил имя предков: хотя, как мне казалось, Уитмен был больше репортером, чем поэтом, он обладал великим и верным сердцем – и мой отец это видел. Уолт Уитмен чувствовал чаяния и стремления народных масс. Моя мать хотела свободы, и ради того, чтобы избавиться от отца, готова была уступить его гордости. Так я остался Уитменом. Конечно, это – просто фамилия, которая ничего не значит, если вы не решите дать волю воображению и сказать, что по рождению я являюсь истинным американцем.
– Как чудесно! – сказал Президент. – Просто поразительно.
– Что именно?
– Что дальний потомок родни Уолта Уитмена оказался в числе руководителей крупнейшей медиакомпании Америки. Это такая чудесная ирония!
– Мой отец сказал нечто похожее. Он сказал, что это «подтверждает гибель почтенной республики».
– Ну, не надо слишком на него сердиться, – отозвался Президент. – Становясь старше, замечаешь такие вещи, видишь, как история формировала современность и как настоящее переходит в будущее. После пятидесяти лет постоянно ощущаешь движение времени – сквозь пальцы, так сказать. Я не ответил.
– Значит, ваша мать знала, что ваш отец будет неудачником, – размышлял вслух Президент, снова возвращаясь к моему происхождению.
– Да.
– Несмотря на его славное имя.
– Да, несмотря на это.
Я замолчал. Я знаю, что мать спасла нас обоих от жалкого и печального существования рядом с моим отцом. Позже он едва сводил концы с концами, будучи пастором в небольшой методистской церкви на севере штата, где ценилась не риторика во время воскресных проповедей, а бесконечное терпение, с которым всю неделю он выслушивал горести прихожан. Напротив, Гарри Маккоу был человеком без каких бы то ни было горестей, и если это означало, что его характер не был закален сомнениями в себе, то мою мать это не смущало: ей пришлось выслушать слишком много мучительных монологов моего отца. Мое первое воспоминание о Гарри – это как он трет надутый воздушный шар о свой свитер, после чего тот чудесным образом прилипает к потолку. Гарри с его большим пузом и большим членом все время смешил мою мать, зарабатывал хорошие деньги в своей страховой конторе, расположенной в центре Филадельфии, на углу Семнадцатой и Рыночной, и отправил меня и моих младших сводных брата и сестру в хорошие квакерские платные школы. Я легко принимал щедрые дары Гарри: уроки игры на фортепьяно, большой задний двор, где весной мы играли в мяч, когда он приходил домой с работы, многочисленные поездки в летний лагерь в пенсильванских горах Эндлесс, заметки с новостями, аккуратно вырезанные из «Нью-Йорк таймс» и положенные мне на прикроватный столик, на тот случай, если мне вздумается их прочитать. Каждую осень мне покупали новую школьную форму, которую моя мать выбирала в универмаге Джона Уонамейкера в центре Филадельфии, и пару футбольных бутс, которые я очень берег. На тринадцатилетие я получил велосипед с десятью скоростями, поездку в Европу со школьным оркестром, брекеты, доброжелательную, но твердую лекцию о том, что не следует делать девушке ребенка и садиться в машину с пьяным водителем, первую летнюю работу, подготовку к университету – все. Мне не на что жаловаться, у меня было достаточно счастливое детство, гораздо счастливее, чем у большинства. Гораздо лучше, чем у Лиз. Или у Долорес, если уж на то пошло.