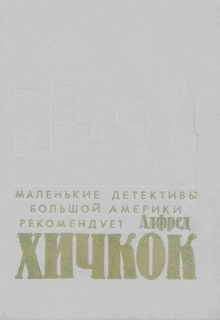– Мария спит? – спрашивал я.
– Все в порядке. Мне надо отучать ее от бутылочки.
– Но ей это нравится.
– Ну, может, скоро, – говорила Долорес. – Ей почти четыре.
А потом, пока я смотрел на нее с кровати, она снимала с себя одежду и становилась перед зеркалом в лифчике и трусиках, чтобы расчесать волосы. Ее тело было упругим, пышным в груди и бедрах. Но больше всего меня поражали ее сильные плечи, спина и ноги. Я решил, что либо ее отец, либо мать были физически сильными. Взяв щетку для волос, Долорес наклоняла голову, открывая нежную шею, и расчесывала темную массу волос. Я смотрел, как мышцы ее руки и плеча сжимаются и расслабляются, сжимаются и расслабляются, пока она расчесывает волосы. Взгляд ее был устремлен в пол, она о чем-то думала, зная, что за ней наблюдают, и наслаждаясь демонстрацией своего тела. А потом она откидывала волосы назад и расчесывала их в другом направлении.
Позже, после всего, мы лежали в постели. В конце концов кто-то из нас вставал. Меня не смущало то, что Долорес видит, как я глотаю гадкие лекарства от повышенной кислотности, меня не смущало, что, стоя в нижнем белье, я уже не выгляжу таким молодым, каким был раньше. С годами это проходит. И, к моему облегчению, похоже, у Долорес не было потребности что-то из себя изображать: я понял это в тот момент, когда она как-то ночью босиком прошлепала в туалет и забыла закрыть дверь. Я услышал знакомое тихое и когда-то бывшее таким привычным женское журчанье, звук которого был приглушенным, потом шорох разматывающейся туалетной бумаги – и улыбнулся. Почему-то это меня успокоило: это было реальным. И мы говорили о предохранении: она пила таблетки и купила новую пачку. Вскоре мы уже перестали делать вид, будто Долорес с Марией живут в нижней квартире. Я переставил кроватку Марии, заказанную по детскому каталогу, в спальню с окнами на улицу.
Но многое оставалось невысказанным. Вопрос о том, кем на самом деле была Долорес Салсинес, маячил передо мной словно соблазнительный плод. Как странно, мужчина и женщина могут быть вместе, обнажившись, но не открывать свои тайны. Я понимал, что ее уход от мужа не означал, будто она не оплакивает конец их брака. И до сих пор она хранила тайну своей жизни с Гектором, старалась не говорить о ней, сообщала мне только разрозненные факты. Он продавал машины, он тянул кабель, он очень любил Марию и так далее.
Однако я не давил на Долорес и оправдывал себя тем, что мой дом и моя жизнь вдруг стали теплее, наполнились жизнью. Похоже, Мария свыклась с тем, что мы с ее матерью теперь спим вместе. Каждое утро она вбегала в мою спальню – в нашу спальню – и бросалась на постель, крутясь, хихикая и щедро обнимая меня, как когда-то делала это каждое утро у себя дома, словно вся ее детская любовь и потребность в отце нашла выход во мне. Моя дочь родилась бы примерно в одно время с Марией, и, когда Мария кидалась мне на шею, я испытывал сладко-горькое смятение. «Вот что я имел бы, если бы Лиз не убили, – думал я, проникая сквозь завесу времени и судьбы, чтобы увидеть себя в постели рядом со спящей Лиз и нашей маленькой дочкой между нами. – Это было бы почти так же». Крыша, свет раннего утра, запах сна, теплые тела в постели. Я уверен, люди похожи друг на друга больше, чем кажется, если преодолеть национальные, временные и другие различия. И теперь мне была понятна мука Гектора: то, что было у меня сейчас, эта плоть, которую я прижимал обеими руками, когда-то принадлежало ему. Я испытывал странную, несвойственную мне грусть. Однако мое чувство вины не было настолько сильным, чтобы я признался Долорес, что видел Гектора на площадке с подержанными машинами или что он пытался поговорить со мной, чтобы найти ее. Изменилось бы что-нибудь, если бы я ей об этом рассказал? Не знаю.
Вечером после моего разговора с Президентом Долорес укладывала Марию в постель, пока я готовил какие-то заметки для следующего дня. А потом она постучала в дверь моего кабинета и вошла с пустой бутылочкой в руках.
– Она хотела, чтобы ты пожелал ей спокойной ночи. Она хотела, чтобы ты ей спел.
– Я могу спеть только «Возьми меня с собой на бейсбольный матч», и все.
– Ей все равно, что поют. Спой ей завтра вечером.
– Как насчет «Тихой ночи»?
– Все, что угодно, Джек, – сказала Долорес. – Она от тебя без ума.
Я повернулся к ней. В ее голосе появилось нечто новое. Долорес провела пальцами по бумагам, разложенным на моем столе. Я понял, что дело не в сексе. Я предложил ей подняться на крышу. Воздух там был прохладнее, ночь стояла ясная. Мы поднялись туда с бутылкой вина, хлебом, сыром и фруктами. Я наполнил рюмки, и мы какое-то время сидели в темноте.
– Ты этого ожидал? – внезапно спросила у меня Долорес.
– Чего?
– Того, что произошло между нами, – пояснила она.
– Нет, – ответил я. – Я не слышал ничего более нелепого, чем это «между нами». Я надеялся, что это случится, но не позволял себе ждать.
– А я знала, – засмеялась она. – Я каким-то образом знала с самого начала.
– Ты знала, что мне хочется?
– Ну конечно же. Но я имею в виду – я знала, что у нас это будет. Ты должен понять: я была очень измучена и больна. Но я подумала об этом уже в первую ночь. В чистой постели было что-то такое, из-за чего мне захотелось твоей близости. И у тебя столько денег.
Я ощутил укол досады:
– Столько, что...
– Нет-нет. Ты не понимаешь, Джек. Я никогда не трахалась с мужчиной, который был бы настолько богат, так что мне это нужно было именно поэтому. У меня нет ничего, кроме меня самой, понимаешь? А у тебя так много всего, и мне хотелось посмотреть, как это будет. А еще потому, что мне было жаль тебя, что ты потерял жену.
Я засмеялся:
– Тебе было меня жаль, и тебе понравились мои деньги. Отлично.
Мягкая ладонь игриво шлепнула меня в темноте.
– Мне хотелось бы, чтобы у тебя были причины получше этих, – сказал я.
– Знаешь, – проговорила Долорес, – я ведь не ищу любви, если честно.
– Вот как?
– Я ищу жизнь. Жизнь после Гектора.
Похоже было, что Долорес готова к разговору. Она впервые заговорила о муже.
– Почему он так сильно ревнует? – спросил я.
– Потому что любит меня, почему же еще?
– Ну, многие мужчины не сходили бы с ума вот так.
– Многим мужчинам не приходилось иметь дела со мной. - Она засмеялась, допивая вино. – Он знает, что я умею. Он знает, что я это сделаю. Моим tias – моим теткам он никогда не нравился. Я не говорила тебе, что у меня две тетки? Старшие сестры моего отца. Они были santera...
– Это какая-то смесь католицизма и вуду?
– Santeria – это католические святые с другими именами, старинными африканскими именами, – объяснила Долорес. – И мои тетки приходили к babalawo, священнику santeria, и каждый день ходили в ботанический сад, может, чтобы собрать немного incienso – анис, или sal de mar, mostasa, ajonjol, linaja, травы и прочее, я никогда не могла запомнить все правильно...
– Погоди, – прервал я ее. – Теперь ты должна рассказать мне про банку с водой.
– О, это просто так! – запротестовала Долорес, слишком поспешно захихикав.
– Я тебе не верю.
– Это просто так.
– Она стояла у тебя в той дерьмовой гостинице и в квартире в здании Ахмеда и теперь стоит. Я ведь ее видел, Долорес.
– Просто так.
– Зачем она?
Она вздохнула:
– Ее ставят, чтобы собирать злых духов.
– Ты в это веришь?
– Ну, нет, но... Мне так спокойнее, – сказала Долорес. – Это приносит удачу. Со мной случалось слишком много дурного.
И конечно, я не мог не спросить:
– Что именно?
– Так, всякое.
Она затихла, превратившись в темную тень. Я слышал ее дыхание. «Ты понятия не имеешь, кто она», – подумал я.
– Ничего дурного не случится, – проговорил я наконец.
Прошла минута. Мы оба молчали, погрузившись в свои мысли.
– Короче, – продолжила Долорес, – как я сказала, моим tias Гектор не нравился. Он был слишком темный. Они говорили, что я могла бы найти мужчину с более светлой кожей. Они хотели, чтобы я родила детей, которые были бы светлее. В Доминиканской Республике так положено делать. Если ты рожаешь более темного ребенка, то это un paso antrós, вроде как шаг назад. А еще он им не нравился потому, что не мог говорить на хорошем испанском. Он знает очень немного, говорить по-настоящему не может. Кухонный испанский, понимаешь?
– Он – пуэрториканец?
– Да.
– Но родился здесь?
– Да.
– Ну, я могу понять, почему его испанский был не таким уж хорошим.
– Я понимаю, но мои тетки не могли понять. Они говорили, что Гектор слишком горячий. Монахини в католической школе всегда говорили, что santeria – это нехорошо, что это глупо, что, если ты в это веришь, значит, ты невежественный человек. Но у большинства из них не было теток, которые вечно варили что-то безумное, заглядывали в свои книжечки, и все такое. Гектор этого понять не мог. Пуэрториканцы считают, что все доминиканцы – jibaros. Деревенщины. Его родные меня не признавали, они считают, что доминиканцы ничего не стоят. Всегда... Для этого есть слово, chinchorreando, сплетники. Они как клопы – сумасшедшие и все время скачут. Если ты пуэрториканец, ты считаешь себя американцем и считаешь доминиканцев отбросами, типа, они только что сюда приехали. Гектор как-то попробовал выдать мне это дерьмо, а я ему сказала: «Сначала ты говоришь мне, сколько у тебя двоюродных братьев сидят на пособии, а потом смеешься над моим papi». Если бы он хоть раз видел моего papi, он бы понял. Он бы понял, что смеяться не надо. Мой отец был сильный человек, его ноги выглядели так, словно в них спрятаны мячики. Он работал на фабрике по производству роялей. Гектору не удавалось навязать мне это дерьмо. Но была и другая причина. Видишь, я же сказала, что я немного светлее его, совсем чуть-чуть. Ему это нравится. Я знаю, что ему всегда хотелось белую женщину, и он был рад, что я светлее.