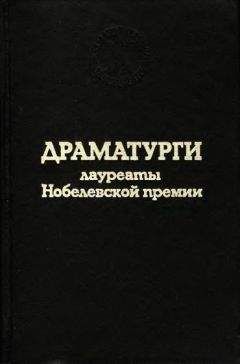Мать. Твои слова для меня как стихи.
Отец. Я продолжаю, раз ты так хочешь. (Сыну.) Делаю пол-оборота и обращаюсь теперь только к тебе.
Мать. Не зевай, как в зоопарке, когда твой отец с тобой разговаривает.
Отец. Ты зеваешь, как в зоопарке, когда твой отец выкладывает перед тобой всю душу? Перед тобой, перед своим сыном, вырывает из груди свое сердце? (Показывает жестом.) Флаш-ш-ш. Ты зеваешь, как в зоопарке, когда впервые в стенах этого дома начинает звучать голос разума — динь-дон, динь-дон? Послушай же теперь, я расскажу тебе о моей жизни, и, несчастный, сгори со стыда! Утром. Начнем с утра! Когда твоя отец и мать встают, еле продирая глаза, еле двигаясь, перед ними трудовой день. Что делаешь ты? Ты? Что ты делаешь в это время? Барин нежится в постели, в своем уютном гнездышке, барин ждет, пока мать подаст ему кофе в постельку!
Мать. С двумя рогаликами и тремя сухариками.
Отец. Два рогалика и три сухарика! В то время как твой отец, обреченный идти на работу, с отвращением закуривает свою первую утреннюю сигарету! А ты? Не сгораешь со стыда?
Мать (после короткой паузы, бросив взгляд на сына). Не сгорает.
Отец. А потом? Потом я выхожу в холод и слякоть, дрожа как осиновый лист, подняв воротник своего старого пальто, потому что новое я берегу для выходов, а ты? Что делаешь ты, пока я иду по улице под ледяным ветром?
Мать. Он просит еще немножко кофе с двумя сухариками.
Отец. Начинаешь понимать, что к чему? Осознаешь всю пустоту твоей жизни?
Мать. Твоей чего?
Отец. Твоей жизни!
Мать. А-а!
Отец. А потом? Я сижу в четырех стенах. Загораю под неоновым солнцем! Пишу не разгибаясь, не разгибаясь, не разгибаясь… Без устали вкалываю, вкалываю, вкалываю. А ты, несчастный, что делаешь в это время?
Мать. Принимает ванну.
Отец. Еще одно доказательство! В то время, когда твой отец с чувством законной гордости и глубокого удовлетворения на том скромном месте, которое он занимает, делает все усилия для содействия прогрессу, ты, бесполезное существо, барахтаешься в ванне!
Мать. Насвистывая!
Отец. Насвистывая!
Мать. Насвистывая и напевая.
Отец. Похоронный марш или танец смерти?..
Мать. Нет. Это такая… постой… ее он поет каждое утро. (Поет.)
«Плевать на полицейских,
Плевать на лекторов,
Плевать на контролеров,
Плевать на докторов!»
Отец. Перестань, ради бога, у меня сердце разорвется!
Мать. Я помню наизусть и второй куплет.
Отец. Перестань, прошу, я больше не вынесу.
Мать. Раз уж я его помню, я его спою. (Поет.)
«На слухи и на сплетни
Мне тоже наплевать,
На общество и деньги
Мне уж совсем на…»
Отец (перебивая). По крайней мере поет он вполголоса?
Мать. Какое — вполголоса, во всю глотку!
Отец. Боже! А соседи?
Мать. Иногда сквозь стенку подпевают.
Отец. Боже милостивый! Стыд и позор! Господи, я весь перед тобой, в чем я грешен?
Мать. Постой, я знаю еще и третий куплет. (Поет.)
Отец. Ой! Хватит! Прошу тебя! Ты поешь гнусные песни в то время, как твой отец работает? И в то время как твоя мать… Знаешь ли ты по крайней мере, что делает твоя мать?
Мать. О!.. Чем может женщина заниматься…
Отец. Скажи ему, как ты хлопочешь по хозяйству!
Мать (на одном дыхании). Я стираю, тру, чищу, натираю, отчищаю, глажу, застилаю, мою, прочищаю, убираю, штопаю, шью, вяжу…
Отец (перебивая). А затем она выходит из дома, и на ту же улицу, где гот же ледяной ветер. И возвращается с кошелкой больше ее самой. Она оступается, хромает, такая усталая, сгорблепная, как нищенка, вся ее женственность исчезла, она задыхается, хрипит, кашляет, стонет…
Мать. Милый, не паясничай!
Отец. Я преувеличиваю, чтобы его прошибить.
Мать. Но все-таки не до такой степени.
Отец. Но, по сути, кто ты в доме? Нянька, служанка, половик, о который вытирают ноги. Ты прочищаешь засоренные раковины, режешь лук, чинишь краны, штопаешь носки, рубишь дрова, белишь стены, кроешь крышу, затыкаешь дыры, хватаешься сразу за все! Чистишь ящик для кошки, и все это для того, чтобы обслужить барина!
Мать. И тебя.
Отец. Как — и меня?
Мать. Чтобы обслужить и тебя тоже.
Отец. Я не «тоже»! Я работаю! Вот двенадцать дня. Я выскакиваю из комнаты и бегу домой. Ты в своей тесной кухоньке готовишь скудный обед…
Мать (возмущенно). Как это — скудный?
Отец. Это чтобы прошибить. Я влетаю, стол накрыт, в супнице дымится наш прекрасный французский суп с белой фасолью, пахнет шкварками и колбасой. (Публике.) Обожаю белое вино с копченостями. И там… Что я вижу? Я спрашиваю тебя: что я вижу?
Мать (публике). Что он видит?
Отец. Я вижу там тебя — в пижаме, уже уселся на стул и локти на стол. Это скандал.
Мать. Не шмыгай носом, когда твой отец говорит, что это скандал!
Отец. И даже возмутительный скандал. А потом? Я читаю газету, а в ней — преступления, изнасилования, дорожные катастрофы, похищения детей — словом, все, что скрашивает паши будни. И снова бегу на работу, а ты? Ты после обеда спишь, в то время как твоя бедная больная мать снова на кухне, и мытье посуды портит ее изящные музыкальные руки…
Мать. Милый, да что ты несешь?
Отец. Вот именно! И тебе не в первый раз говорят, что у тебя музыкальные руки. А когда музыкальные руки моют посуду — это в высшей степени восхитительно!
Мать (кричит). Что?
Отец. Я хотел сказать — возмутительно! Словом, абсолютно! То есть абсурдно! И во второй половине дня я снова в четырех стенах за мизерную зарплату. А мать, которая ведет хозяйство, откладывает на вторую половину дня все самые тяжелые работы. А ты, что ты делаешь?
Мать. Идет гулять.
Отец. Гулять, на солнце, в то время как я взаперти! Прогуливается, зайдет то в одно кафе, то в Другое, кого-то встретит, о чем-то поболтает, рисует на тротуарах, пока я подбиваю итоги на бесконечных спецификациях? Разве твой отец рисует на тротуарах, скажи?
Мать. Ты никогда не умел рисовать.
Отец. Я бы рисовал как умею — эти-то картины чаще продаются дороже. А я каждый день с восьми до двенадцати и с двух до шести, суббота — короткий день, месяц оплаченного отпуска и в конце — пенсия! Понимаешь ли ты эту радость труда?
Мать. Нет.
Отец. А-а?
Мать. Он не понимает.
Отец (кричит, выходит из себя, а к концу впадает в отчаяние). А вечером? Весь измотанный, голова как котел, беру мою газетку, в домашних шлепанцах у телевизора, с тобой, моя крошечка, мы сидим, ни слова не говоря, пока не идем спать. Понимаешь ли ты это счастье? А? Можешь ли ты его понять? А ты сам? Что ты в это время делаешь? Поешь, играешь на гитаре на берегу реки, целуешься с девушками всех стран и национальностей прямо на подстриженных газонах, где ходить запрещается, затем все вы вместе усаживаетесь вокруг костра и ты не закрываешь рта, не закрываешь рта… (иронично) в то время как я… я… я!..
Мать. Милый! Успокойся!
Отец. А наутро все снова, и так каждое утро, и каждый день, и каждый вечер! За смехотворную зарплату, которая идет на то, чтобы набивать дом всякими вещами! В то время как ты., ты гуляешь по земле и под луной и под солнцем!
Мать. Слушай, когда твой отец…
Отец. Среди деревьев и по берегам рек, с гитарой на боку, с куском мела в руке, с головой, полной света, полной музыки! Понял ты наконец, каким должен быть твой путь в жизни? Готов ли ты вступить на него со всей ответственностью? Готов ли ты… (Останавливается так как сын встает, снимает с себя разодранную, кожаную куртку и протягивает отцу. Отец берет ее, и они вместе выходят.)
Мать провожает их потрясенным взглядом.
Gabriel Arout — LES ALPINISTES (1963)
Действующие лица:
Сэм.
Жером.
Море облаков, прорезаемое горными пиками. Плоская вершина одного из них сооружена в центре сцены; в начале пьесы она пуста.