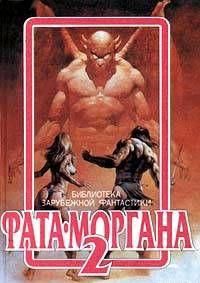– С чего вдруг я должна вам помогать? – удивилась Вихляева. – Вы же сами считаете меня ведьмой, и что все ваши беды происходят исключительно из-за меня.
Ираклий, уходя от ответа, опустил глаза.
– Но не вы ли сами, голубчик, хуже базарной бабы, любитель всего того, что с душком? – продолжала промывать ему мозги соседка. – Вот оттого и липнут к вам неприятности, как мухи на прокисшее повидло.
Неожиданно Вихляева наклонилась и зашипела ему в самое ухо:
– По делам твоим тебе же и воздаётся. Доносы брось писать, может, тогда и снизойдёт на тебя благодать – излечишься, примешь смерть от старости, а не от пороков.
Сумелидий перекрестился, чего никогда не делал за всю свою жизнь и поднял глаза. Соседки уже не было. Подавленный и разбитый, Ираклий вернулся домой.
Первым делом он сжёг неотправленные доносы, пообещав кому-то в самом себе, что больше никогда не возьмётся за это грязное дело. Затем литератор тщательно убрался в квартире, поставив этим точку на своём тёмном прошлом. И мир для него стал сразу светлей, исчезли и чёрные мысли, томящие душу. Он сел за письменный стол и ощутил необъяснимое блаженство.
Первый раз за всё это мрачное время ему по-настоящему захотелось писать, так же, как жить и дышать полной грудью. Чувствуя творческий подъём, Ираклий достал стопку чистой бумаги и, наконец, окунулся в море страстей и переживаний. С каждой написанной строчкой рождалось новое литературное произведение, а с ним возрождался совершенно другой писатель – Ираклий Сократович Сумелидий.
В тени клёна на лавке возле подъезда лежал Кузьмич. В его голове назойливо звучал вальс «Амурские волны». В такт музыке, кружась между провалами в памяти, медленно возвращалось сознание.
Очнувшись, он тяжело вздохнул. Единственная робкая мысль, посетившая в эту минуту его воспалённый мозг, была только одна: «Жив ли я?»
Первым доказательством того, что душа не покинула его измученное тело, было то, что по щекам шлёпало нечто тёплое и мокрое. Вторым – то, что к этому прибавились тошнота и непреодолимое желание испить холодного огуречного рассола. Когда же это нечто тёплое и мокрое стало нагло вылизывать его слипшиеся от томатного сока усищи, Кузьмич воскрес окончательно. Он открыл глаза, и тут накатившая было на него волна негодования мгновенно сменилось испугом. Сердце, готовое выпрыгнуть из груди, подскочило к горлу. Над ним не было ни голубого, ни звёздного неба – всю его безбрежность сожрала клыкастая слюнявая пасть.
– Кыш, кыш, кыш,! – заорал Кузьмич не своим голосом.
Пасть клацнула страшными клыками и вмиг превратилась в мохнатую добрую дворнягу.
– Чудовище, ты просто чудовище… – застонал Кузьмич, хватаясь то за горло, то за грудь.
Пёс завилял хвостом и подал лапу.
– Ну, ты и морда, противная гадкая морда. Тебе не стыдно? Посмотри мне в глаза, я спрашиваю, тебе не стыдно? – узнавая в нём знакомого пса, запричитал Кузьмич.
Вдруг его душевные излияния прервал металлический грохот, будто рядом работал кузнечный цех. Кузьмич обернулся на шум и обалдел: у чёрной от сажи помойки, пережившей не один пожар, какой-то, явно не в себе, гражданин самозабвенно бился головой о мусорный бак. При близком рассмотрении нарушителя тишины Кузьмич узнал в нём того самого поганца, который продавал ему этого самого пса.
– Ах, ты, сукин сын! – взорвался слесарь.
Громыхала оторвался от бака. Уставившись на Кузьмича, как на второе пришествие, он издал звук ягодицами, напоминающий выхлоп заводского гудка, зовущего на трудовую вахту. Однако этот пикантный пассаж нисколько не смутил Кузьмича.
– А «Интернационал» можешь? – поинтересовался слесарь.
– Издеваешься? Я тебе не флейта и не тромбон, да и опыта маловато, – обиделся громыхала.
– Ну, ничего, ничего, всё у тебя впереди, набьёшь ещё трудовые мозоли. Главное, если что-то делаешь, то делай это хорошо, от сердца, с искрой в глазах, а не как засранец.
Громыхала покосился на помятую крышку мусорного бака.
– Вижу. Здесь ты преуспел. Должен признать, подошёл к этому с энтузиазмом, расстарался. Может быть, тебе на завод пойти – кузова для машин прессовать? Поднимешь на высокий уровень советский автопром, станешь передовиком производства, получишь грамоту или вымпел, а там глядишь – и орден не за горами.
– Засунь себе то и другое в одно место, агитатор! Я и так в авторитете. И для меня он каждый раз кровью даётся, а не перевыполнением пятилетнего плана у станка.
– Вот! Вот! – Кузьмич шарахнул кулаком по баку. – Век живи – век учись! Так поведай мне, старому недоумку, что это за такая великая тайна, за которую ты так бился?
– Для меня авторитет – это когда из всей толпы немощных, что стоят на паперти, именно тебе больше денег подают, – неудавшийся передовик в авторитете ткнул пальцем на синяки и ссадины, – хороший товар денег стоит. За эту хохлому кто пяточек, а кто и троячок соизволит. Потому как через меня людишки милостыней грешки свои замаливают. Кому же жалость особо сердце давит, ещё и поплачут – всё радость.
– И много ли подают?
– Свой карман не тянет! Зёрнышко по зёрнышку, а на флакон «Тройного» одеколона всегда есть.
Глаза Кузьмича полыхнули брезгливой ненавистью.
– Это и есть вся твоя тайна? Добавил бы я в твою палитру красок, Иуда! – Слесарь поднял увесистый кулак.
– Да тебя просто зависть гложет, пролетарий! Чего глаза-то выкатил? Смотри, в штаны не нало…, – не договорив, громыхала почувствовал внезапное жжение в груди, покрылся красными пятнами и разразился кашлем героя-стахановца, положившего своё здоровье на алтарь пятилеток.
Помощь пришла незамедлительно. Кузьмич, как молотобоец, уронил свой кулачище на спину задыхающегося авторитета, отчего тот резко присел. Зайдясь в кашле ещё сильнее, до слёз, он стал размахивать руками, показывая, что такая помощь ему нужна, как примочка на лоб от геморроя. Слесарь прекратил лечение.
– Урод ты! Дури – как пыли в загаженном матрасе, – заключил он.
Дверь подъезда открылась. Из неё вышел Альберт, за ним следом перепрыгнул порог Казимир.
– Кузьмич! Живой! – обрадовался Ворон.
– Живее не бывает, – улыбнулся Ангел. – Вот что значит партийный опыт.
Они подошли к помойке.
На их появление слесарь вознёс руки к небу.
– Спасибо тебе, Всевышний, что в эту тяжёлую минуту ты не оставил меня одного.
– Кузьмич, брат наш, да на тебе лица нет! Что случилось? – поднимая удивлённо брови, и смотря добрыми щенячьими глазами, спросил Ангел.
– Плачу я, и сердце моё разрывается от боли, – запричитал слесарь. – Вот, ежели бы сейчас, сию минуту, здесь, на этом самом месте, воскрес товарищ Ленин, посмотрел бы я в его глаза и спросил: За что мы боролись? За что кровь проливали? Он бы, наверное, ответил: «За правое дело, товарищ! За лучшую жизнь!» И тут я сказал бы ему всё, как на духу: Какое же оно правое и какая она лучшая, когда ни вздохнуть, ни пером описать. В общем дело – дрянь, дорогой Ильич! Шли, шли, а к чему пришли? Пора по новой на «Авроре» носовую «шестидюймовку» заряжать. Да так из неё бабахнуть, чтобы у всех глаза открылись и вспомнилось разом, за что мы всё-таки жизни свои отдавали!
Откашлявшись, громыхала медленно встал. И удивляло не то, что после такой терапии он остался стоять на ногах, а то, что от его былой сгорбленной осанки не осталось и следа. Распрямилась спина и развернулись плечи.
– Ты ещё поплачь, – обратился он к Кузьмичу. – Надо было в семнадцатом из пушки не по Зимнему палить, а на Смольный её развернуть, и чтобы камня на камне… Тогда бы и спрашивать не пришлось.
– Слушай, борец за идею, ты по малой нужде тоже против ветра ходишь?
Громыхала впал в глубокую задумчивость.
– То-то! – Кузьмич покачал головой. – Не путай сегодняшний день с тем, когда это было. Даже если какой-то сумасшедший и дерзнул бы тогда, в семнадцатом, руку поднять на святое – на революцию как на веру в свободу, равенство и братство, то был бы накрыт такой волной гнева возмущённого пролетариата, что «Аврора» стала бы не легендарным крейсером, а подводной лодкой. Так что, если в следующий раз захочешь выдвинуть свои тезисы, сделай милость, повествуй их тем местом, откуда ноги растут. Это, должно быть, единственное, что у тебя ещё не источает глупость.
– Что будем делать с этим субчиком? – вполне приземлённо спросил Ангел.
– Блистать, я так понимаю, ему уже больше нечем. Думаю, надо этого хорька отправить на завод в кузнечный цех. Пусть если не руками, то хоть головой строит коммунизм, – предложил слесарь.
Громыхала даже не успел возразить. Он, как марионетка, задёргал руками и ногами, оторвался от земли и, перевернувшись несколько раз в воздухе, исчез за облаками.
– Альберт, что ты с ним сделал? – изумился Казимир.
– По просьбе трудящихся, подарил ему билет в один конец, как заказывали, на завод. Пускай послужит Отечеству в кузнечном цехе. А мы сейчас полетим к Александре Никитичне. Дома её нет, видимо, она давно уже в театре. Надо её навестить, справиться о здоровье. Да и сердцу неспокойно – как она там, без нас-то?