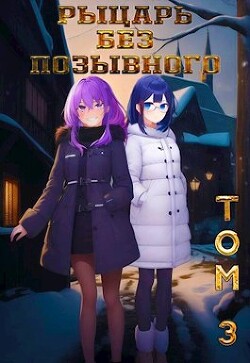Славу, блин... Ничего тупее она и сказать не могла.
— Арифметика? Давай в считалочки поиграем... Каждая кастрюлька — один младенец не доживший до весны. Три кастрюльки — женщина. Четыре — мужчина, а пять... Что рожу кривишь, нравится такая арифметика? — я ткнул пальцем на рассыпанный по полу серый порошок. — Поди, гордишься собой?
Раздраженно клацнув зубами, рыжая опустила арбалет. В их компашке дегенератов, она все еще оставалась самой сообразительной. Чего не скажешь о ушастой...
— Да как ты смеешь попрекать?! Я для себя беру?! Что еще мне остается, когда ты, выродок титулованный, не позволяешь даже поделиться своей порцией!
Не только не позволяю, но еще и сплю на этих мешках, чтобы никого ночью на перекус не пробило.
— Очень щедро, конечно, но... Отдашь ему свою пайку — мешки кто тащить станет, когда ты ослабнешь? Отсюда до города четыре дня идти, а с таким грузом да по свежим сугробам — все десять. Сможешь неделю на пустом кипятке продержаться? Что-то сомневаюсь.
— Смогу! Нужно будет, смогу! Думаешь, я не понимаю, что ты всего-навсего мстишь за унижение?! За свою дурацкую рыцарскую честь?! Что смерти ему желаешь?! Мерзавец! Ублюдок! Ненавижу!!!
Заревев белугой, девчонка снова пнула меня под колено и выбежала из избушки, едва не сшибив с ног Гену, вернувшегося с дровами. Поглядев на недоуменного оруженосца и серый хвост, исчезающий в вечерней мгле, я пожал плечами:
— Может и желаю... Да только не ему.
Чтобы все это дерьмо наконец закончилось и мне больше никогда не пришлось творить всякую дичь ради «общего дела».
Игнорируя раздраженный взгляд пацана, принявшегося подкидывать дрова в печку и шушукаться с рыжей, я вернулся к промерзшему полену и личинкам насекомых. Мерзость конечно, но белок есть белок. В командировках и не такую дрянь жрать приходилось.
В одном кошатина права — я действительно тот еще говнюк. И даже не потому, что считаю блондина обузой, которая ставит всю операцию под угрозу срыва. Это понимают и остальные, пусть и отрицают что есть сил.
Моя проблема в другом — за всю неделю я так и не смог его убить. Каждую ночь ворочаюсь на мешках, готовясь придушить парня шкурой или накачать маковой бормотухой до передоза, но каждый раз не решаюсь, вызывая разочарованный блеск фиолетовых глаз в темноте.
Но и без кислой мины Киары и так все ясно — хреновый я командир. Совсем нюх утратил. Раньше без промедления действовал а теперь... Постарел, что ли? Ведь с самого начала было понятно — нельзя брать Калеба с собой. Он под любым предлогом должен остаться в той деревне, «потеряться» где-то по дороге или внезапно помереть от «сердечного приступа».
Жестоко или нет, но на кону жизнь города. Если не всего целого, то минимум половины. Стоит ли жизнь одного бесполезного дурака такого риска? Ответ очевиден и закономерен. Но треск статики каждый раз останавливает, не позволяя совершить необходимое и повторить свои старые «подвиги» в новом мире.
Долбанный чистоплюй.
— Сир. — непривычно холодный голос Гены вырвал меня из круговорота самобичевания.
Усевшись на лавку, на которой когда-то покоились тела дезертиров, он принялся буравить меня непривычно решительным взглядом. Походу пацан уже немного привык к моей манере общения и начал позволять себе чуть большее, нежели «да, сир!» и «постараюсь, сир!».
— Не смею судить вас, сир, однако вынужден заметить — ваш благородный титул не терпит пренебрежения жизнями невинных.
— Это каких? Тех, что с голода помрут или тех, у кого ноги не в ту сторону смотрят?
Пацан тяжко вздохнул и принялся помогать выискивать личинки в поленьях.
— Вы правы, сир. Утопая в пламени сострадания — легко позабыть о горькой истине. Я признаю, что не способен в полной мере осознать бремя вашей ответственности. Зато могу отметить ваше неподобающее поведение! Вы теперь рыцарь! Вы обязаны соответствовать! Когда вы уже оставите свои низменные замашки позади и...
— Чего-чего я там оставлю?
— Рыцарские добродетели! Вы должны соответствовать своему титулу!
— Гена, ты хоть знаешь, кто такие рыцари? Дядьку своего позабыл? И одного и второго?
— Один недостойный поступок не обеляет другого, сир! Из-за червивого плода яблони не рубят! Рыцарь может сподобиться на тяжелый поступок, но свершит его как рыцарь, а не как разбойник! Без пренебрежения слабыми! Особенно — девушками! Вы не имеете права позорить свой титул!
Вот же мелкий... Философствовать вздумал. Судя по примитивности измышлений — с Аллерии пример берет, поганец.
— Титулы, благородство... Чушь собачья. Твои «рыцари» самые натуральные гопники. Просто отмытые и витиевато выражающиеся.
Престолонаследие, законы, традиции — фигня из-под коня. Предки всех этих Грисби и Мюратов начинали с банального крышевания и рэкета «своих» да грабежа «чужих». Самые сильные и жестокие процветали, слабые пахали, обеспечивая своими горбами чужие амбиции. Потихоньку не особо почетные звания древних братков заменялись на более благозвучные, пока наконец не появились всякие лорды и леди. Право сильного преобразилось во всякие мутные схемы, типа феодальной земли, военных податей или торговых пошлин. Но суть не изменилась — дои покорных, щеми слабых, роднись с сильными. Не люди, а волки натуральные.
И ни один, даже самый красивый и высокий титул этого не изменит. А рыцари это всего лишь низшее звено этой колхозной мафии. Силовое крыло.
Короче, ништяки поднимаются наверх — говно стекает вниз. Классика.
— Может вы и правы сир... — вздохнул несчастный оруженосец, сгребая немногочисленных личинок в кастрюльку и задумчиво оглядывая плохо заделанные ставни. — Да только я не им присягнул, а вам. Не тому, кто изображает недостойное достойным, а тому, кто прячет благородное за низменным. Когда вы уже осознаете, что нет ничего дурного в добавлении меда в горькое вино...
Едва приставленная дверь сдвинулась и в избушку вернулась заплаканная кошатина, как пацан едва заметно толкнул меня в плечо и, подхватив один из спальников, принялся вешать его на пустое окно. Само собой, нифига не получалось.
Оценив заинтересованные взгляды авантюристок, и напряженное кряхтение оруженосца я закатил глаза. Вот же интриган малолетний...
Фыркнув, я смешал насекомых с порошком, что просыпала ушастая и, сунув кастрюльку рыжей, повернулся к ломающему комедию оруженосцу:
— Нафига ты спальники мучаешь? Воды на какую-нибудь тряпку налей, чудила.
— Сир? Вы знаете, что нужно делать? — как ни в чем ни бывало осведомился пацан, уже не раз видевший этот трюк в моем исполнении.
Доски-то на окнах салона не сразу появились... Устроил тут театр, блин. Уж не фиолетовая ли надоумила?
— Посиркай мне еще! Намочи какое-нибудь одеяло да на окно повесь. Оно заледенеет и больше поддувать не будет. Да дай уже сюда! Иди пока печку пожарче растопи да раненного покорми. Всему учить надо... А вы чего расселись?! А ну марш лед с колодца набирать! Бинты сами себя не прокипятят!
Неуверенно переглянувшись, авантюристки послушно подхватили старый крестьянский казан и заспешили на улицу. Поглядев на заряженный арбалет, оставшийся в углу и самодовольный взгляд оруженосца, я не сдержал протяжного стона. Сопля соплей, а поучает... И самое раздражающее, прав оказывается. Засранец!
* * *
Виной тому голодный желудок, беспокойное бормотание блондина или храп веснушчатой авантюристки, но сон решительно не шел. Повинуясь полузабытой привычке, я вышел из теплой избушки в холодную темень и похлопал себя по рукаву, в поисках кармана с сигаретами.
Собственный разочарованный вздох прозвучал в унисон с чьим-то чужим. Проморгавшись и чуть привыкнув к темноте, я обнаружил узкое пальтишко, склонившееся на колодке во дворе избушки. Устав шарахаться весь вечер по округе, Киара сидела на пеньке и задумчиво выводила заковыристые узоры палочкой на снегу.
Перед остальными она все еще играла роль «простой девчонки», но делала это с куда меньшей охотой чем прежде. С каждым новым днем она становилась все молчаливее и все чаще отлучалась от группы, бродя меж деревьев с задумчивым выражением.