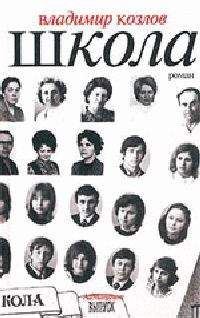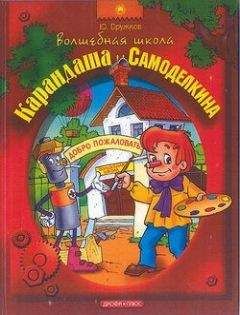А если будет? Совесть – очень странное и необъяснимое явление. Она проявляется вдруг неожиданно и тогда, когда ее совсем не ждешь. И уж тогда она начинает действовать. Я это знаю точно. У меня так же было, когда я упер у Шпрингенфельда его новый пенал. Два дня я радовался, а потом понял, что я не могу носить его в класс и он мне совсем не нужен. И когда я его раскрывал дома, я совсем не получал удовольствия.
Я смотрел на себя дома в зеркало и видел в зеркале вора. И мне не очень нравилось его глупое лицо. И я пришел в класс за полчаса до уроков и положил пенал в парту Шпрингенфельда.
Шпринг увидел его в парте и завопил на весь класс:
"Пенал мой нашелся!"
И я тогда сказал: "Надо лучше смотреть, куда что кладешь, а не нахально подозревать своих товарищей!"
Шпринг сказал: "Извините", и я был очень доволен, а может быть, даже почти счастлив. Нет! Я скажу так: вопреки утверждениям некоторых ребят, совесть – это не пережиток прошлого, а факт настоящего, и от него даже, наверно, зависит будущее. Не буду ее испытывать, обойдусь без лишнего кусочка. А если все-таки отломить маленькую корочку? Уж наверняка никто не узнает… А совесть? А ну ее!..
И тут вернулась Кричинская с весами, и мы стали проверять нашу резьбу, докладывать кусочки и отрезать лишнее.
И когда 62 куска лежали в точном порядке на столе, Ирина сказала: "Я пойду доложу Любовь Аркадьевне, что хлеб готов, а ты сторожи здесь. И не вздумай его трогать".
И она ушла, а Вадик остался скучать один в столовой.
Когда Ирка вернулась, она сказала:
– Я беру свой кусок, и ты возьми свой, и вот тебе еще половина моего, тебе нужно поправляться.
– Спасибо, Ира, – сказал Вадим и вынул из своего кармана корочку. – Я утащил кусочек, но я его отдаю честно обратно. И не надо мне твоего куска, и ничего вообще мне не надо, и только, я тебя прошу, никому об этом не рассказывай, потому что – в общем, ты понимаешь почему…
И Ира поняла и рассказала об этом мне только в марте 1974 года.
Как оно пахнет? За сто шагов. Оно лежит на блюде в столовой, а пахнет уже на лестнице двумя этажами ниже. Ты входишь в квартиру, подходишь к столу, видишь его – продолговатое, чуть похожее на сильно вытянутую восьмерку, светло-коричневое, а может быть, даже бежевое, будто лакированное. Ты берешь его в руку, бережно, как птичку, и подносишь ко рту, а у тебя уже капают слюнки. Ты осторожно надкусываешь его, и из него выдавливается густой, вязкий крем, он выдавливается, как клей из тюбика с подписью "гуммиарабик", и аромат расходится по всей квартире. Вот что такое пирожное "Эклер".
Но мы его видели только в кино. Последний раз я ел его три года назад, в 1919 году. После этого мы вообще забыли, что такое пирожные, если не считать тех кулинарных произведений, которые мама и тетя Феня создавали из картофельных очистков.
И вдруг папа откуда-то принес одно такое пирожное.
У меня как раз сидели Шура Навяжский и Женя Данюшевский, и мама дала нам по чашке чая, и к чаю был на всех троих маленький зеленый кусочек постного сахара. Женя, как специалист по геометрии, точно расколол его на три части, и мы наслаждались.
И вдруг эклер.
Мама сказала:
– Ребята, это вам. Мы есть пирожное не будем.
Получайте удовольствие.
В энциклопедическом словаре на букву "У" сказано: "Удовольствие (только единственного рода). Чувство радости и довольства от приятных ощущений". Так вот, у нас начались такие ощущения.
А папа сказал:
– Мы с мамой уходим, а вы срывайте цветы удовольствия.
И мы начали срывать.
Мы поручили Женьке осторожно разделить пирожное, чтобы не вытек крем. Разложили все три части на блюдца, и в этот момент раздался звонок. Пришла Ира Дружинина со своей мамой Елизаветой Петровной.
У Елизаветы Петровны болел зуб, и Ира уговорила ее пойти к моей маме.
Родители были еще дома, и мама быстро забрала Елизавету Петровну к себе в кабинет, а Ира прошла ко мне в комнату.
– Что это вы едите? – спросила она.
– Так… одну вещь… – сказал Женька. Он еще не успел начать.
– Неужели пирожное? Не может быть!
– Представь себе, – сказал я. – Папа принес откуда-то… Что ты стоишь? Садись. Сейчас я принесу чай, и ты будешь пить чай с пирожным под названием "Эклер".
– Ой! – вскрикнула Ира.
А Шура и Женя грустно переглянулись.
– Давай теперь дели три порции на четыре части, – сказал Шура.
– Давайте иначе, – предложил я, – я отдаю свою порцию Ире, а две ваших мы поделим на три части.
– Очень просто: от каждой нашей части по кусочку тебе.
– Идет, – сказал я.
В это время вошли Елизавета Петровна и мама.
– Зуб уже не болит, – радостно сообщила Елизавета Петровна.
Я понял, что нужно проявить гостеприимство.
– Елизавета Петровна, – провозгласил я, – прошу вас к столу. Будем пить чай с пирожными.
Женька и Шурка с ужасом посмотрели на меня.
– А вы, Анна Александровна? – спросил Шурка.
– Хорошо. Я выпью чашечку с вами.
– А как же быть с пирожным? – испугался Женька.
– А вот как! – внезапно сказал я. – Мы отдаем дамам наши эклеры.
– Что вы, что вы! – заголосила Елизавета Петровна.
– Я есть не буду, – сказала мама.
– Не обижайте нас. Все-таки мы мужчины, – заявил Женька.
– И дайте нам себя ими почувствовать, – сказал я.
Дамы согласились, и мы себя почувствовали… Между прочим, чувство было довольно грустное.
Дамы ели пирожные, причмокивая от удовольствия и прихлебывая чай. А мы мгновенно заглотнули кусочки постного сахара и жалобно смотрели на крошки эклера, падающего на блюдца.
Вскоре мы разошлись. Я остался в комнате один, вспоминая красивый, аппетитный эклер, и думал:
"Трудно быть настоящим мужчиной, но что-то всетаки есть в этом приятное…"
У нас был культпоход в театр. Всем классом нас повели на оперу "Дубровский". Было, конечно, очень интересно сидеть в ложе на втором этаже и смотреть, как наполняется людьми большой зал театра, как собираются оркестранты в яме.
А потом заиграл оркестр, поднялся громадный занавес и началось что-то очень странное: все нормальные люди пели. Мы поняли все, что происходило на сценестарый человек – помещик Дубровский был разорен богатым помещиком Троекуровым. Так бывало при капитализме. Старик очень переживал и умер. А его сын узнав об этом, стал предводителем разбойников и решил нападать на плохих, богатых людей. А сам он притворился французом и придумал себе смешную фамилию Дефорж и с этой фамилией нанялся учителем к дочке Троекурова по имени Маша. И он полюбил эту Машу, то есть хотел на ней жениться. В общем чего это я вам буду рассказывать! Вы все, наверно читали про это у Пушкина. Это все очень интересно: и про разбойников, и как они подожгли дом, и как Дубровский ограбил Антона Пафнутьевича, а тот говорил: "Я не могу дормир в потемках". Но странно то, что все они не говорили, а пели. Даже "пожалуйста" и "спасибо" ну каждое слово. И это, оказывается, и называется "опера".
Но в общем это нам все понравилось. Особенно мне.
А на другой день у нас был урок русского языка и Мария Германовна вызвала меня.
– Поляков, – сказала она, – что такое подлежащее?
И я запел:
– "Вы меня спросили, что такое под-лежа-щее?
Я отвечаю вам!"
– Ты что, с ума сошел? – спросила Мария Германовна.
– "Нет, нет, – запел я. – Я просто отвечаю на вопрос".
– Что с ним такое? – спросила Мария Германовна, обращаясь к классу.
И встал из-за парты Шура Навяжский и тоненьким голосочком пропел:
– "Он вчера в опере был – вот в чем дело".
И все мальчишки хором поддержали его: "Да, да, да, да!"
– Ну так вот что, – сказала Мария Германовна, – здесь у нас школа, а не опера. Прошу всех певцов выйти из класса.
И восемь человек покинули класс.
Следующие уроки у нас проходили, как драматические спектакли: мы отвечали на вопросы, и никто не пел.
Папы и мамы были в школе не редкими гостями.
Они бывали у нас на родительских собраниях, на школьных вечерах, концертах, на заседаниях родительского комитета, а нередко переминались с ноги на ногу в учительской, куда были вызваны по вопросу о поведении своего сына или дочери.
Одни стояли перед педагогом, как будто это они провинились, моргали испуганными глазами или смущенно сморкались, прикрывая платком глаза. Другие__ Удивленно взирали на педагога и разводили руками:
Не знаю. Мой Леня дома вежливый, скромный мальчик. Не представляю себе, чтобы он пытался взорвать учительницу. Тут явно какая-то ошибка.
Бывало и что мамы плакали.
Мы, конечно, знали всех родителей. Но они нас не очень волновали.
Волновал нас один папа. Это был отец Бобки__профессор Рабинович. Известнейший врач одной из лучших ленинградских клиник.