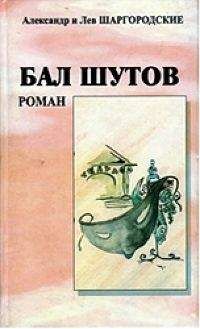Королевские уши, наконец, прочистились. Людовик раскрыл свой широкий партийный рот.
— Кто вам сказал, что они диссиденты?! — гневно произнес он.
— Вы, — простодушно ответил Борис. — Поэтому я и удивился.
— Когда?!
— Да только что.
Людовик Четырнадцатый побагровел, будто ему сообщили о дворцовом перевороте, и сразу стал похожим на Петра Первого.
— Вы чокнулись! — завопил он. — Федотов старый член партии, Пельман повсюду громит сионизм, а Зильбербранд — депутат районного совета!.. Я вам сказал — ассистенты! Ассистенты! Вы слышите?!
— А — а… — разочарованно произнес Борис, — понятно. А кто же тогда диссиденты?
Королевский парик слетел с головы секретаря парторганизации театра.
— Диссиденты?! — вскричал Людовик. — Сахаров и Солженицын!
— Это я знаю, — сказал Борис, — но Сахаров в Горьком, а Солженицын — в Америке. Не лететь же мне к ним… Кто в нашем театре?
— В нашем театре, — взяв себя в руки, сурово произнес Король — Солнце, — диссидентов нет и не будет!
— Очень жаль! — печально вздохнул Борис…
В коридоре его ждала Ирина.
— Ты окончательно спятил! — сказала она. — Зачем ты ходил к секретарю?
— Хотел вступить в партию! — зло произнес Борис и добавил: — Дай мне две копейки.
— Не дам, — ответила Ирина. — Нечего звонить этому Борщу. Он может вновь продекламировать монолог Отелло.
— Я отодвину трубку, — пообещал Борис. — Может быть, он познакомит нас хоть с одним диссидентом. Кому это, в конце концов, надо — нам или ему?!
— Ты думаешь, у него есть свободные диссиденты? — спросила она. — Они или в тюрьме или за границей!
— Тогда я ему скажу все, что я о нем думаю!
— Дорогой мой, — напомнила Ирина, — если бы люди знали, что о них думают другие — они бы перебили друг друга! Но он перебьет нас быстрее, чем мы его!..
— Но я не могу вживаться в то, чего я совершенно не знаю!
— Боря, — сказала она, — почему ты не хочешь положиться на свой талант, на свое актерское чутье? Ты играл всех Генрихов — разве до этого ты встречался с английскими королями? Или ты скупал мертвые души до того, как сыграть Чичикова? Может, ты задушил не одну женщину, до того, как задушить меня?… Почему ты не доверяешь себе, своим чувствам? Возьми и заяви, что ты считаешь нужным!
— Но в этом‑то все дело. Что я могу заявить?
— Что‑нибудь антисоветское!
— Легко сказать, — пробурчал он. — А кому?
— Кому? Да хоть, для начала, нашему гардеробщику.
— Петровичу? — удивился он.
— А почему бы и нет?.. Ведь, как сказал Станиславский, театр начинается с вешалки… Заявление ты сделаешь на вешалке, то есть в гардеробе — а через десять минут о нем будет знать весь театр!..
В гардеробе Борис очень волновался.
Петрович принес ему пальто, шарф и шляпу, он машинально надел их, потом снова снял и протянул гардеробщику.
Петрович несколько странно взглянул на Сокола, отнес вещи и вернулся с номерком.
— Держите, Борис Николаевич!
— Спасибо! — поблагодарил Борис, спрятал номерок и уставился на гардеробщика.
Петрович забеспокоился.
— В чем дело? — спросил он. — Вы что‑нибудь забыли?
— Да, да, — ответил Борис и начал снимать пиджак. — В — вот. Повесьте, пожалуйста!
Недоумевающий гардеробщик подозрительно взял пиджак и понес его вешать. Когда он вернулся, Сокол еще был там. Он развязывал галстук.
Петрович испугался.
Борис принялся было снимать рубаху.
— Зачем? — испуганно спросил Петрович.
— А затем, — Борис одернул рубаху, — а затем, Петрович, — он оглянулся, — что я тебе сейчас скажу такое, что у тебя глаза на лоб полезут!
Петрович вытер вспотевший лоб и на всякий случай отступил от барьера.
— Ты знаешь, — глаза Бориса вдруг загорелись яростью, — ты знаешь, что…
— Что, что? — шептал, отступая, Петрович.
— Ты знаешь, что… — орал, оглядываясь по сторонам, Борис.
— Ну, что? — умоляюще спрашивал гардеробщик.
— Ты знаешь, что..?! — ревел Сокол.
Это был почти призыв к революции.
— Ну, скажите уже, — молил Петрович, — не мучьте! Христом Богом прошу! Что — оо??
В гардеробе появился Орест Орестыч.
— …что театр начинается с вешалки! — выпалил Борис и, махнув рукой, подал Петровичу номерок…
У людей без комического начала обычно трагический конец. Впрочем, и с комическим тот же.
Во все века сатирикам жилось лучше всего там, где их не было. Их там не сжигали, не громили, не насиловали, не сажали на цепь и не превращали в шашлык или отбивную, — в зависимости от страны. В России, например, из них делали котлету.
Даже скромные серые кошки не любят, когда их гладят против шерсти, не то, что цари, падишахи или секретари райкомов.
Поэтому возмущение Гуревича было необоснованным. Он постоянно тянул дьявола за его длинный хвост — а ему ничего не оторвали, не изнасиловали и даже не изжарили.
Грех жаловаться.
Его тихо выгнали из театра и не принимали ни на какую другую работу. Можно сказать, что Гуревич был свободен.
Он лежал в своей отдельной комнате на Невском, пил и думал, как устроить скандал, чтобы на нем уехать.
О программированнии не могло быть и речи. С детства с точными науками у Гарика были проблемы.
Когда в школе учитель задавал задачу про двух человек, один из которых вышел из пункта А, а другой из пункта Б, Гуревич всегда спрашивал, с какой целью человек идет в пункт А, как он одет, как его зовут — Гуревич в голове ставил задачу по своей системе. Один человек, у него всегда была женщина, по пути к пунктам эти люди влюблялись, кипели страсти, иногда дело заканчивалось убийством из ревности.
Никто и никогда во всех случаях не доходил ни до пункта А, ни до пункта Б.
И за такое решение учитель ставил гению Гуревичу жирную двойку, иногда вызывая в школу маму.
Но ничего не помогало — Гарик решал задачи своим методом.
Так что речь могла идти только о скандале.
Он думал — о каком. И решил после долгих поисков разбить стекла в Управлении культуры, чьи окна выходили на Невсий, в пятидесяти метрах от него.
По обычаю, он приступил к постановке скандала. Мизансцена была довольно проста — он появлялся со двора, со стороны Армянской церкви, поворачивал налево, за угол, доставал камень, который покоился за пазухой, и, размахнувшись — кидал.
Он отрепетировал это несколько раз, провел генеральную репетицию, перебив все окна в своей комнате. Премьера была назначена на пятницу.
Все развивалось хорошо — он двигался плавно и пластично от церкви, он завернул, резко достал камень, размахнулся… и тут окно в Управлении распахнулось и из него высунулась морда той самй дамы, из комиссии.
Менять мизансцену было поздно — камень уже летел. И прямо в лоб даме! Гарик похолодел — он понял, что этот скандал будет чересчур, что он на нем поедет, но в тюрьму.
Камень попал в центр могучего лба и разлетелся надвое. Дама улыбнулась, с презрением глядя на гения.
— Я не Дездемона, — ехидно заметила она, — со мной не так- то легко справится.
И презрительно сплюнула на гения.
У Гарика от этого плевка дня три болела голова, к тому же его посадили на 15 суток за мелкое хулиганство.
Вышел он похудевший, побритый наголо, с пониманием, что на скандал не способен, примерно так же, как на программирование.
А уезжать как‑то было надо.
Он встретился с Анклом Майком, в Летнем саду, под статуей «Ночь».
— Гуд, — произнес Майк, — ай андестен, на это вы не способны… Гуд, есть третий путь.
— Какой? — поинтересовался Гуревич.
— Как вы относитесь к Франс?
— Обожаю. Там же Жан — Луи Барро, там же Жуве, там…
— То эсть, вы не пройтив жить ин Френс?
— Ничуть…
— Гуд, мы вас, Гурвиц, женим на Клотильд.
— Это еще зачем?
— Вай вы не спрашиваете, кто она?
— Мне все равно, я не хочу жениться.
— Но вы хотите во Франс. На скандале ви уехать не мойжете, вы уедете на Клотильд. Красотой она не блещет, умом, предупреждаю, тоже, вообще она, напоминаю, не блещет ничем, но она френч герл, живет наискосок от Нотр — Дама и в восхищении от вас.
— Разве мы знакомы?
— Заочно, она не пропускала ваших премьер. Она вас обожает. Если ви не против — можно считать, что вы уже женаты.
— Дайте сначала хоть взглянуть глазком! — завопил Гуревич.
— Ша! Тейк ит изи, — напомнил Анкл Майк.
Гарик вернулся к себе в комнату и повалился на кушетку. Настроение было отвратительным — никто его не навещал, не звонил, прошел слух, что он уезжает, и контакты с ним на всякий случай прекратили.
Поэтому, когда в дверях появился Леви, Гарик несколько удивился.
— Вы?
— Не удивляйтесь, друг мой, — ответил Леви, — вы уезжаете, я уезжаю, — почему бы нам не поговорить?