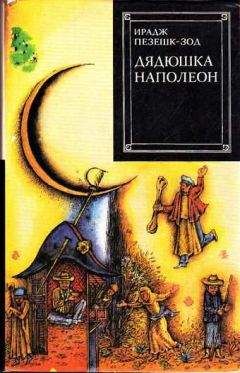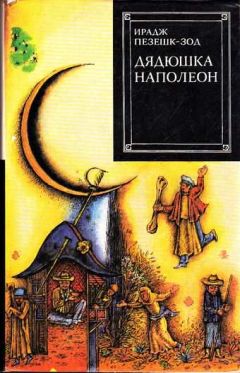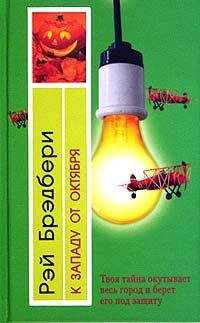Я осторожно приблизился к Маш-Касему, но на мои вопросы он лишь коротко ответил:
– Иди, милок, не путайся под ногами. Не мешай нам.
Когда участок сада перед дядюшкиным домом был устлан коврами, Маш-Касем и матушка Билкис, подхватив с двух сторон деревянную лестницу, двинулись к воротам. Маш-Касем взобрался на лестницу, хладнокровно укрепил над воротами треугольный черный флаг, который дядюшка обычно вывешивал в дни оплакивания мусульманских мучеников. Флаг размотался и на черном полотнище стали видны слова: «Оплачем же убиенных!»
Я изумленно спросил:
– Чего это ты делаешь, Маш-Касем? Зачем флаг вывесил?
– Зачем мне врать, милый?! Сегодня у нас роузэ[10] проводят. Да еще какое!… Не то семь, не то восемь проповедников пригласили… И плакальщики придут, в грудь себя бить будут.
– А разве сегодня день какого-то святого?
– Да неужели ты не знаешь, голубчик? Сегодня день кончины святого Мослема ибн Акиля. Если не веришь, пойди спроси у господина Сеид-Абулькасема.
За моей спиной раздался сдавленный возглас. Я обернулся и увидел отца. С перекошенным и белым, как мел, лицом он уставился на Маш-Касема и черный флаг. От гнева глаза его были готовы вылезти из орбит.
Я стоял и беспокойно поглядывал то на отца, то на Маш-Касема. Маш-Касем, видя, в какую ярость пришел отец, не решался слезть с лестницы и щелчками сбивал с флага комочки грязи и пыли. Я боялся, что отец со злости свернет лестницу. Наконец, нарушив молчание, отец хрипло спросил:
– Ты с чего это черный флаг вывесил, Маш-Касем? У тебя что, в этот день папаша богу душу отдал, или как?
Маш-Касем со всегдашней невозмутимостью ответил:
– Если бы мой папаша, упокой его господи, в такой великий день умер, я бы только радовался. Сегодня же день мученической кончины святого Мослема ибн Акиля.
– Да порази этот Мослем ибн Акиль и тебя, и твоего хозяина, и всех других лжецов вместе взятых!… Не иначе как хозяину твоему, когда он, перепугавшись вора, в обморок плюхнулся, сам архангел Гавриил явился и сообщил, что сегодня святой день!
– Ей-богу, зачем мне врать?! До могилы-то… четыре пальца! Ни про какого архангела я не знаю, зато знаю, что сегодня день кончины святого Мослема ибн Акиля… И господин Сеид-Абулькасем тоже это знает. Хотите, можете у него самого спросить!
Отец, дрожа от бешенства, закричал:
– Да я такое устрою тебе, твоему хозяину и Сеид-Абулькасему, что по вам все святые хором плакать будут!
И словно в подтверждение своих слов отец принялся трясти лестницу. Маш-Касем истошно заголосил:
– Ой, спасите, ой, помогите! Заступись за меня, святой Мослем ибн Акиль!
Я испуганно схватил отца за руки:
– Отец, дорогой, не трогайте вы его! Бедняга же здесь ни при чем!
Услышав мой крик, отец немного смягчился. Метнув в Маш-Касема гневный взгляд, он повернулся и быстро зашагал к дому.
Еле дышавший от страха Маш-Касем посмотрел на меня с лестницы и благодарно сказал:
– Награди тебя аллах, сынок! Ты мне жизнь спас!
Когда я вернулся домой, отец, срывая злость на матери, кричал во дворе:
– Да если б я взял себе жену из нищей, неграмотной семьи, и то было бы лучше!… Ладно, мы еще посмотрим, куда люди пойдут – ко мне в гости веселиться или оплакивать мучеников к Наполеону Бонапарту!
Я впервые услышал, как отец назвал дядюшку его императорским прозвищем. Распря зашла настолько далеко, что враждующие стороны пустились во все тяжкие, чтобы досадить друг другу. Пустяковое недоразумение – неуместный скрип стула, или, допустим даже, злополучный «подозрительный звук» – не только грозило, как говорил дядя Полковник, «священному единству», но и могло подорвать устои всей нашей семьи.
Мать хватала отца за руки и умоляла:
– Если не хочешь вдовой меня оставить, одумайся! Посуди, как можно гостей сегодня принимать?… На той половине сада люди плакать будут, в грудь себя бить, а здесь – музыка, песни, водка!… Да кто смелости наберется в гости к тебе сегодня прийти?! Плакальщики такого живьем на части раздерут!
– Но я же знаю, что сочинил он все про Мослема ибн Акиля! Вранье это, знаю.
– Ты знаешь, но люди-то – нет! Плакальщики-то не знают! Ославишь нас на всю округу! Убьют ведь и тебя, и детей наших!
Отец задумался. Мать верно говорила. Вряд ли кто-нибудь осмелится беззаботно веселиться в саду, когда рядом в это время читают молитвы и оплакивают мучеников. Отцу угрожала опасность быть на собственной вечеринке и хозяином и единственным гостем.
Маш-Касем, который проносил вместе с матушкой Билкис лестницу мимо нашего дома, услышав разговор моих родителей, остановился и, минуту помолчав, мягко сказал:
– Уж, ежели по правде, то ханум дело говорит… Вы бы перенесли вашу вечеринку на другой день.
Отец зло посмотрел на него, но потом, словно передумав, сказал, стараясь, чтобы голос его звучал спокойно:
– Да, да, все правильно… Великий день ведь. Так ты говоришь, сегодня поминают святого Мослема ибн Акиля?…
– Ох, и горькая ж у него была судьба!… Да лучше б меня вместо него убили!… Ох, злодеи! Голову ему отрезали!…
– Только ты скажи своему хозяину, что Мослема ибн Акиля не зарезали, а с башни скинули. И еще скажи, что на этих днях одного человека тоже с башни скинут, да так, что он потом костей не соберет! – И с напускной печалью отец добавил: – Как бы то ни было, святой нынче день! Я вот, хоть и собирался гостей позвать, все теперь отменил ради того, чтобы пойти на роузэ, которое ага затеял… Обязательно вечером туда приду!… В такой святой день нельзя мне к аге не прийти… Всенепременно приду.
Маш-Касем машинально ответил:
– Да уж, конечно, ага, милости просим. Благое дело.
Но тут же, вероятно, сообразив, что на самом деле на уме у отца, встревожился и поспешил к дядюшкиному дому.
Немного подождав, я побежал вслед за ним и нашел его на краю сада в сарае, куда он ставил лестницу.
– Маш-Касем, ты ведь наверняка догадался, что мой отец задумал?
Маш-Касем с опаской огляделся по сторонам.
– Ты бы, милок, шел себе играть с ребятами. Если ага узнает, что мы тут с тобой разговоры разговариваем, шкуру с меня сдерет.
– Но Маш-Касем, надо же что-то сделать, чтобы покончить с этой ссорой! Они с каждым днем друг друга все больше ненавидят. Страшно подумать, что дальше будет.
– Э-э, голубчик! Зачем мне врать?! До могилы-то… Я и сам смерть как боюсь! О том уж и не думаю, что мне теперь по сто раз на день приходится в сад к господину Полковнику лейки с водой таскать, чтоб цветы ихние не засохли!
– В общем, надо что-то сделать, чтобы отец либо совсем не ходил сегодня на роузэ, либо ни словом там не обмолвился про вчерашнюю историю с вором… А иначе одному богу известно, чем все это кончится!
– Ты за сегодняшний вечер не волнуйся, милок. Ага об этом тоже подумал… По моему разумению, отцу твоему сегодня не дадут и рта раскрыть. Только смотри, папаше об этом не проболтайся!
– Ну что ты, Маш-Касем! Будь спокоен. Я себе слово дал, если этой ссоре конец придет, непременно в молельне свечку поставлю.
– А раз так, то за сегодняшний вечер не переживай. Ага договорился с Сеид-Абулькасемом, что, ежели твой отец придет на роузэ, тот не позволит ему и слова сказать.
Я понял, что Маш-Касем полностью признал во мне серьезного сторонника мирного урегулирования конфликта – он говорил со мной совершенно откровенно.
– И ты, милок, тоже постарайся сделать как-нибудь так, чтобы твой отец много-то не разговаривал.
В этот момент в саду показался Пури. Маш-Касем вполголоса пробормотал:
– Вот ведь беда, милок! Господин Пури пожаловал. Сейчас пойдет, лошадиная морда, и донесет аге, что мы тут с тобой разговоры разговариваем. Беги-ка, голубчик, к себе!
Мать спешно разослала гонцов по домам наших родственников, чтобы предупредить их, что из-за неудачного стечения обстоятельств прием гостей у нас сегодня отменяется. Родичи, к тому времени успевшие получить от дядюшки приглашение на роузэ, конечно же, сами догадались, что вечеринка не состоится, и поэтому не слишком удивились.
Едва село солнце, как началось организованное дядюшкой траурное собрание. Дядюшка, одетый в черную абу, восседал на подушке поближе к собственному дому. Для женщин разостлали ковры по другую сторону увитой шиповником беседки. Когда отец направился принять участие в роузэ, меня охватили противоречивые чувства. С одной стороны, меня беспокоили последствия его встречи с дядюшкой, а с другой – я со сладостным томлением предвкушал момент, когда снова увижу Лейли.
Дядюшка, встречая каждого вновь прибывшего, подымался навстречу, но когда к собравшимся приблизился отец, дядюшка не шелохнулся и сделал вид, что не видит его. На роузэ прибыли почти все наши родственники, жившие неподалеку. Странным казалось лишь отсутствие Азиз ос-Салтане и ее мужа.