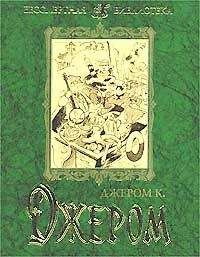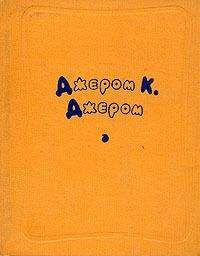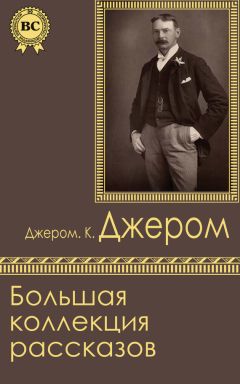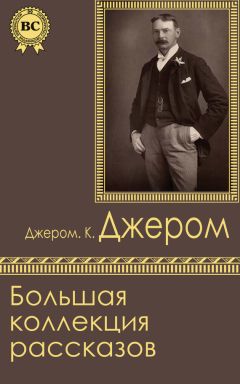Удивляясь, почему этот великолепно выполненный портрет, который мог служить украшением любой комнаты, оставался в таком пренебрежении, я сунул его обратно в одну из выпавших книг, куда он был вложен и, по-видимому, забыт несколько десятков лет тому назад, поставил книгу на место и снова взял в руки перо.
И все же не мог настроить своих мыслей на должный лад. Теперь мне мешал только что виденный портрет, так и носившийся передо мною, куда и на что бы я ни посмотрел. Я не из фантазеров, а веселая комедия, которую я собирался написать по заказу, была совсем не такого рода, чтобы мне было необходимо впадать в мечтательное настроение.
Особенно скверно стало вечером. Маленькая лампа, данная мне младшей хозяйкой — старшая весь день только и делала, что дремала в своем глубоком кресле или грелась перед огнем, несмотря на июньское солнце, — освещала лишь стол и ближайшее к нему пространство, оставляя другие части комнаты в полумраке; мне казалось, что вокруг меня шевелятся тени. Как-то невольно я взглянул в дальний угол, где стояло другое старинное кресло, обитое какой-то светлой материей с крупными красными цветами, и готов был поклясться, что в этом кресле сидит та самая молодая особа, портрет которой почему-то так глубоко поразил мое воображение. Она была в выцветшем лиловом платье, отделанном густыми кружевными оборками, и держала сложенными на коленях маленькие, белые и прозрачные руки поразительно красивой формы. Это было тем удивительнее, что портрет был поясной, так что это видение не было, собственно, воспроизведением одного виденного, что иногда замечается в подобных случаях.
На следующий день, отлично выспавшись, я находился, что говорится, вполне «в норме», и моя немилая работа наладилась как нельзя лучше. Но лишь только наступил вечер, я вдруг вспомнил о портрете. Он так заинтересовал меня, что я достал его из шкафа и снова углубился в его рассматривание. На этот раз меня осенило воспоминание, что я когда-то знал это прекрасное и трогательное лицо, но где и как — не мог вспомнить. Мне было ясно одно, что я не только встречался с этой девушкой или молодой женщиной — скорее первое, — но и говорил с нею. Портрет улыбался мне, словно шутливо журил меня за забывчивость. Я сунул его назад на полку и принялся ломать себе голову, чтобы заставить ее выдать мне таившиеся в ней отпечатки прошлого, но ничего не получалось. Я припоминал только, что много лет тому назад встречался с этой особой где-то за городом, и мы говорили с ней о самых обыденных вещах. Вокруг этой смутной картины носился запах распустившихся роз и звучали песни жниц. Но потом я никогда больше не встречался с этой милой девушкой, так что самое воспоминание о ней могло совершенно изгладиться у меня из памяти.
Вошла хозяйка — младшая — и стала накрывать мне ужин. Пользуясь этим, я равнодушным тоном осведомился у нее, много ли бывает летом путешественников в этой деревне.
— О, очень немного, — ответила она. — Но все-таки кое-кто нас посещает, как вот, например, сделали вы, узнав, что здесь тихо и такой прекрасный воздух. Некоторые приезжие иногда гостят месяца по два. Мы живем здесь не очень давно, всего двадцать семь лет. Раньше, когда был жив мой отец, у нас была большая ферма. После его смерти нам пришлось ее продать, и мы переселились сюда, приобретя этот маленький коттедж, который тогда продавался.
Опасаясь, как бы моя собеседница не пустилась в долгие и слезливые рассуждения о прошлом, ничуть меня не интересовавшем, я поспешил сесть за стол и оборвать разговор. То, что мне хотелось узнать, я не узнал, а расспрашивать прямо я не желал. Это казалось мне нарушением покоя умершего оригинала с которого был сделан портрет (я почему-то думал, что девушка, изображенная на нем, непременно должна была давно уйти из этого мира).
На третий день, в воскресенье вечером, я ходил гулять по окрестностям и возвратился домой уже в сумерках. Моя комедия отлично подвигалось у меня в голове. Во время ходьбы я придумал последнее действие с такими комичными положениями, что сам про себя весело хохотал над ними. Вдруг, проходя мимо окна своей комнаты, чтобы войти на крыльцо, находившееся по другую сторону дома, я увидел в нем то милое девичье личико, которое стало мне так дорого. За мелким переплетом стекол отчетливо обрисовывалась вся фигура девушки, в том же полинялом лиловом платье с кружевами и со сложенными на груди красивыми руками, такая, какой она привиделась мне в первый раз в углу комнаты, в кресле. Разница была лишь в том, что тогда, сообразно ее сидячему положению, руки девушки были на коленях, а теперь покоились на груди; сама же девушка стояла у окна, и ее глаза были пристально устремлены на дорогу, вившуюся между отдельными усадьбами деревушки и терявшуюся в горах. В этих темных глазах было такое задумчивое и печальное выражение, что у меня от жалости замерло сердце. Я остановился как очарованный и смотрел сквозь ветви отделявшего меня от окна розового куста до тех пор, пока прелестное видение не отошло в глубь комнаты и не скрылось в темноте.
Я поспешил в эту комнату, но она была пуста; я повысил голос и спросил, кто тут. Но мне ответила одна мертвая тишина. Мною овладело опасение, что у меня начинаются галлюцинации. Между тем все происходившее очень просто можно было объяснить тем, что моя мысль, хотя и против моей воли, была занята интересным портретом; но правда, в данное время я совсем и не думал о нем, занятый работой моего воображения. Я всячески старался отогнать от себя навязчивое «наваждение», но ничто не помогало, а следующий случай даже усилил его. Перед тем как лечь спать, я достал из шкафа одну из старых книг и уселся с нею под лампой. Книга оказалась сборником стихотворений неведомого поэта. Видимо, эти стихи старого сентиментального пошиба, много раз перечитывались. Некоторые особенно мелодраматические места были подчеркнуты карандашом и на полях высказывалось одобрение им, как это часто делалось раньше, да и делается некоторыми чувствительными читательницами и теперь, потому что, что бы ни говорили циники с Флит-стрит, человеческое сердце вовсе не настолько окаменело за последние десятилетия, как это мерещится им. Особенною симпатией владелицы книги пользовалось одно из стихотворений о том, как уезжает милый, покидая в слезах свою милую. Оно было написано в таком наивном тоне и, в сущности, так плохо, что при других обстоятельствах возбудило бы во мне только веселость и насмешки. Но, читая его в связи с теми трогательными примечаниями, которыми были исписаны вокруг него поля, я чувствовал нечто другое, вовсе не желание смеяться. Я понял, что в этом немудреном стихотворении заключалась вся история бывшей обладательницы этой книги, — история старая как мир, но вечно новая и тяжелая для того единственного сердца, которому приходится в первый раз переживать ее.
У меня не было никакого основания отождествлять владелицу этой книги с оригиналом портрета, за исключением разве соответствия между тонким и нервным почерком первой и такими же тонкими и подвижными чертами лица последнего. Но я инстинктивно почувствовал, что это одно и то же лицо, и я постепенно, шаг за шагом, решил проследить неизвестную мне историю жизни моей давнишней случайной знакомой.
Утром следующего дня, когда моя хозяйка убирала остатки моего завтрака, я снова попытался разузнать о том, что так заинтересовало меня.
— Если я уеду и забуду что-нибудь из своих книг, бумаг или вещей, то будьте добры переслать их мне по моему городскому адресу, который я вам оставлю, — начал я издалека. — Со мной это бывает. Я думаю, и с другими вашими жильцами случалось это, — добавил я как бы в свое оправдание и вместе с тем сам удивился грубой постановке своего вопроса, так явно выдававшего мою «заднюю» мысль.
— Нет, насколько могу припомнить, ни с кем из наших жильцов этого не случалось, — совершенно спокойно ответила хозяйка. — Только те вещи и остались у нас, которые принадлежали молодой леди, жившей у нас, и здесь же умершей.
— В этой комнате? — подхватил я.
— О нет, не в этой, собственно, комнате, — поспешила возразить хозяйка, видимо, пораженная моим взволнованным голосом. — Мы успели снести ее наверх, где она немного спустя и умерла. Она приехала сюда уже совершенно больная. Если бы мы знали это, то не пустили бы ее к себе. Люди избегают домов, в которых кто-нибудь умер, как будто есть такие дома, в которых никто никогда не умирал. И действительно, после того у нас никто не останавливался. Наверное, не остановились бы и вы, если бы знали, не так ли? И я, быть может, напрасно вам проговорилась, или вы, как писатель, чужды этих глупых предрассудков? — полувызывающе-полушутливо продолжала она.
— Совершенно чужд, — уверил я ее и поспешил спросить: — А у вас что-нибудь осталось после умершей?
— Только несколько книг и фотографии, да кое-какие вещи, какие обыкновенно берут с собой люди, едущие ненадолго в деревню. Ее родственники хотели прислать за этими вещами, но потом, наверное, забыли, потому что никто не являлся и никаких распоряжений относительно них мы не получали. Вот они и лежат у нас.