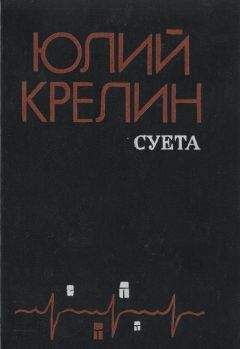Следом прибыл Иван Макарович, включил чайник в розетку, давно разбитую нетерпеливыми и умными хирургическими руками, ополоснул чашки, коричневатую поллитровую банку, служившую для заварки, и тоже сел за свой стол.
Молчание.
Постепенно ординаторская заполнялась людьми из операционной.
Вернулся и Олег Миронович, подошел к чайному столику, повертел с гримасой подозрения банку для заварки и прервал молчание ординаторской:
— Вот и чайник вскипел. Может, сначала перекусим?
Он вытащил из сумки, лежащей на стуле, пакет с бутербродами и положил их на тарелку. Кто-то выставил на стол пачку сахара. Макарыч подошел к шкафу и извлек из него пачку индийского чая со слоном.
Коллеги приветствовали этого «слона» сдержанными, но удовлетворенными возгласами.
Молодые стажеры-интерны задерживались, выполняя самую рутинную, почти денщиковую работу: запись, которую начальство считает главной; перекладывание больных на каталку, которую сестры считают тяжелой; сопровождение больного в реанимацию, которую анестезиологи законно считают ответственной. Кто закончил сегодня оперировать, сразу переодевался. А тот, кто ожидал следующую операцию, сразу начинал существование в ординаторской с осмотра чайного стола, добавлял что-нибудь из своего портфеля или залезал в холодильник. Затем всякий наливал себе чай и либо наскоро, стоя выпивал свою чашку, либо садился, используя свободное место и время для питья и записи в истории болезней.
Мироныч:
— Слыхали? Прораб наш подал в товарищеский суд на начальника.
Маркович:
— И правильно. Бить нельзя.
Мироныч:
— А работать так можно?
Макарыч:
— Да их всех перебить надо.
Маркович:
— За плохую работу? Кого же оперировать будем? Самих себя? — И одиноко засмеялся.
Мироныч:
— Что ж, все разве плохо работают?
Макарыч:
— Все.
Мироныч:
— Если бы мы так работали, у нас все больные перемерли.
Маркович:
— У наших больных здоровье крепкое. — И опять засмеялся над своими словами.
Мироныч:
— Мы по роду своей работы вынуждены все делать лучше их. Нельзя не дошить кишку или зашить ее только для вида гнилыми нитками. Сестра, прежде чем дать нитку, потянет, подергает, проверит, а потом подаст. Так ведь?
Маркович:
— А если у твоего больного осложнение?
Мироныч:
— Бывает. Только не от халтуры. Может, от неумения, от незнания, от технической трудности, от сложности болезни, от возможностей организма — но от халтуры никогда. Мы же все делаем операции до последней возможности, на пределе умения и знаний. Так ведь?
Макарыч:
— А если осложнение, пусть приходят и бьют. — Теперь одиноко засмеялся Макарыч.
Маркович:
— Если после каждого осложнения нас будут бить, кто оперировать будет?
Мироныч:
— А почему товарищеский суд? Если на нас прокурору жалуются, то они и разбирают в прокуратуре. Или суд.
Маркович:
— Не приняли. Такие дела в суде не любят, стараются не принимать. Он же его не избил, побоев не нанес, увечий нет, следов нет, — проявил достаточное знакомство с мытарствами Петра Ильича.
Мироныч:
— Откуда знаешь?
Маркович:
— Антонина рассказывала.
Макарыч:
— На нас тоже суд не всегда принимает, а отправляет по инстанциям. Жалобы посылают в газеты, горкомы, министерства, а разбирают потом наши медицинские трибуналы.
Маркович:
— Что за манера подробно рассказывать, что и так все знают.
Макарыч:
— Тебе ли говорить?!
Мироныч:
— Медицинские инстанции хуже всякого суда — и товарищеского и обычного.
Маркович:
— Надо на нас жалобы в товарищеских судах разбирать.
Мироныч:
— Сами себя, что ли, будем судить?
Маркович:
— Самому себя судить всего страшней и тяжелей.
Мироныч:
— Ну да! Работать надо всегда хорошо? Да?
Маркович:
— Да. А что, не так?
Мироныч:
— Днем всегда светло. Да?
Маркович:
— Олег Миронович, мне ваша ирония непонятна. Да. Есть вещи, над которыми смеяться нельзя.
Мироныч:
— Это же опасно, когда есть что-то, над чем нельзя смеяться. Смеяться можно по всякому поводу. Можно добро улыбаться, можно зло насмехаться. А уж тут смотри.
Маркович:
— Опасны те, которые по любому поводу иронизируют. У них нет ничего святого. Всё — повод для зубоскальства. Над своим святым не смеются.
Макарыч:
— Ну, вы даете! Философы. Вас чуть тронь — вы сразу пошли обобщать. Интересно, до чего договоритесь.
Маркович:
— Мы всегда говорим только о работе, Иван Макарович. Я говорю, что работать надо всегда хорошо. А Олег Миронович почему-то и в этом видит что-то смешное.
Одинокий смех на этот раз принадлежал Миронычу. Маркович:
— Смейтесь, смейтесь. Подумали бы лучше, как вести себя «а товарищеском суде. Они присылают своего обвинителя, и будет полно рабочих из ремтреста. Все у нас в больнице — им идти никуда не надо.
Макарыч:
— И у нас весь коллектив на месте. Надо устроить суд где-то на выезде. Чтоб не было хозяев. Тогда справедливо.
Мироныч:
— Тогда и вовсе никто не придет. Кого-то стукнули — всем до лампочки.
Макарыч:
— Вот и будет здесь. В конференц-зале.
Мироныч:
— Ну, а что ты скажешь в защиту своего начальника?
Макарыч:
— Я и не собираюсь. Как тут защищать? По морде-то врезал.
Маркович:
— Вот! А я им все выскажу. Так работать, как они работают, нельзя. Во-первых, длительность. Во-вторых, качество: линолеум положили, а он уже запузырился, а где и отошел.
Макарыч:
— Сам говорил: быстро хорошо не бывает. Маркович:
— Слишком долго — еще хуже.
Макарыч:
— Флюгер.
Маркович:
— Ветер с любой стороны на меня не влияет.
Мироныч:
— Речь-то пойдет о мордобитии, а не о ремонте.
Маркович:
— А мне плевать, о чем они там хотят говорить. Там будут ремонтники, и я буду говорить об их работе. Где еще я их всех увижу?
Мироныч:
— Засмеют. И забьют. У них голоса покрепче.
Маркович:
— Лишь вы, Олег Миронович, склонны к насмешкам не по делу и не по поводу. А там люди серьезные и совестливые, раз в товарищеский суд идут.
Макарыч:
— Представление! Ну дети! Те — про морду, эти — про линолеум. А потом стенка на стенку.
И опять одинокий смех — то, конечно, Макарыч. Хоть бы раз засмеялись все вместе. Нет дирижера. Заведующий где-то у начальства. А настоящей, руководимой слаженности нет, как в персимфансе. Пока доктора спорили, молодые стажеры разбрелись по палатам, перевязочным, операционным. Им была скучна дискуссия местных врачей — они не видали и не были свидетелями обсуждаемых событий. Могли бы, конечно, оживиться, когда пошла речь о возможном восстановлении справедливости традиционным способом — стенка на стенку. Дело для молодых. Но их уже никого не было. Орали по очереди в ординаторской Макарыч, Мироныч и Маркыч и по очереди смеялись друг над другом. Вернее, каждый над своей шуткой.
Наконец в ординаторскую вошел и дирижер:
— Чаи гоняете? А у нас еще одна операция.
— Сейчас пойдем, Евгений Максимович. Я вас жду. Я ассистирую вам, — приподнялся со стула Мироныч. — Я и молодежь. Они уже там.
Макарыч:
— Слушай, Максимыч, на тебя в суд подают?
Максимыч:
— Не твое дело. Вызовут в суд — будешь ответ держать. Вот тогда поскалишься. Разулыбался. Тут ты смелый.
Макарыч:
— Да я ничего не говорю. Только спрашиваю.
Максимыч:
— Спрашиваешь! Пошел бы да помог на операции.
Макарыч:
— С молодежью справитесь. Подумаешь, какая операция!
Максимыч:
— С тобой же легче.
Макарыч:
— Будет трудно — позовете.
Максимыч:
— Бездельник. Чего я тебя держу в отделении? Тебя давно пора уволить. Или в поликлинику. Там операций нет.
Маркович:
— Там, Евгений Максимович, своя работа, и не менее тяжелая. Там нет перерывов на чай и на треп. Как пошел конвейер на весь день…
Максимыч:
— Спасибо за информацию. Я не знаю, что такое поликлиника? Да тебя, Макарыч, и в поликлинику опасно посылать. Ты сильно осложнишь работу в ней.
Засмеялись все, кроме Макарыча.
Макарыч:
— Ладно смеяться. Лучше расскажи нам про суд. — Смеется.
Максимыч:
— Что — про суд? Сам не знаешь? Я виноват — хам, негодяй, истерик. Заслужил все, что присудят. Пошли, Олег.
Макарыч рассмеялся.
В дверях Евгений Максимович обернулся:
— И без всяких разговоров, Иван Макарович. Вы тоже идете на операцию помогать мне. Все. — И вышел.
Маркович рассмеялся. Правда, он остался один. Все вышли вслед за дирижером.
Очень сложно ввести в рамки смех. Смех бывает необузданным, неуправляемым — им надо руководить. Смех бывает неуместен, и тогда он одинок. Одинокий смех бессмыслица, балкон на лужайке. Одинокий смех горек для смеющегося. Одинокий смех может перейти и в плач. И это действительно легко получается. Смех — серия судорожных выдохов. Попробуйте — и почувствуете. Плач — серия судорожных вдохов. Попробуйте — и почувствуете. Одиночные вдохи-выдохи следуют друг за другом. Без этого нет жизни. Ну а серии…