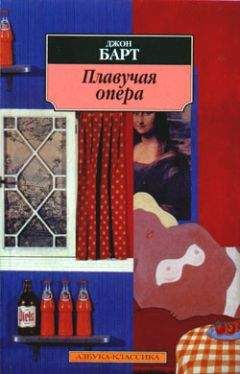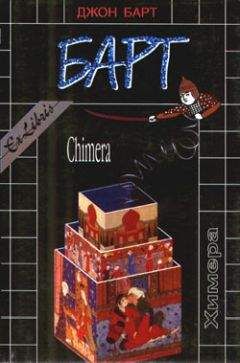Андромеда засмеялась, развеселившись в первый раз за целые месяцы; затем по предложению разбитного Даная они отправились на поиски чего-либо менее скучного, чем зрелище его окаменелых пращуров. Мы с Диктисом смотрели, как они уходят, моя жена – весело ухватившись за предложенный ее провожатым локоть; а затем обошли остальные фигуры, задумчиво произнося вслух имена людей и родов; на это у нас ушел остаток великолепного утра и часть дня. Вернувшись наконец к остывшей тени Полидекта, мы сделали несколько глотков из серебряных кубков Гиппокрены и без обиняков обменялись своими проблемами.
– Не могу сладить с парнишкой, – сказал Диктис, – и все из-за того, что у него никогда не было матери, а я уделял слишком много времени руководству правительством, чтобы быть ему надлежащим отцом.
Я посочувствовал, размышляя о растущем сопротивлении своих собственных сыновей, и спросил, кто же была Диктисова царица; послушав его беканье да меканье, я сменил тему, не без удовольствия заключив, что юный Данай был прижит им вне законного брака. Он полагал, что нам стоит прервать их тет-а-тет; я же вместо этого попросил еще вина и двумя кубками позже по секрету поделился с ним своими домашними проблемами и своим убеждением, что я каменею.
Диктис потряс головой:
– Просто костенеешь, как все мы.
С Андромедой, конечно, хуже некуда, сказал он; сам он почти рад, что так и не женился на той единственной женщине, которую любил, глядя, как редко удается чувству выстоять под натиском лет. В остальном ничем тут делу не поможешь, он посоветовал мне примириться с безлюбием и упадком. Конечно же, он даст мне корабль, чтобы добраться до Самоса, Иоппы или любого другого места, куда я захочу, – но все путешествия, напомнил я, рано или поздно приведут к одной и той же мрачной гавани.
– В таком случае лучше поздно, – сказал я и объявил за обедом собравшейся компании, что готов продолжить паломничество по своему же давнему пути. Если Андромеда не намерена отправиться вместе со мной…
Ее глаза сверкнули.
– Иоппа, и точка.
– По крайней мере посоветуйся с Афиной, – заклинал меня старый Диктис.
– Конечно, – сказал я, – Там, где я делал это раньше, в ее святилище на Самосе.
– "Где он учился жизни у искусства, – насмехалась надо мной Андромеда, – ибо там, на фресках в ее храме, изображены были все три Горгоны – змееволосые, свинозубые", бу-бу-бу да бу-бу-бу. Я знаю это наизусть. Я остаюсь здесь.
Младой Данай вертел в руках свой прибор.
– Как я слышал, молва гласит, – сказал он, – что после того, как ты в последний раз попользовал Медузу, Афина заново собрала ее, но на сей раз с некоторой разницей: теперь она, наоборот, обращает в плоть камень – вновь раскочегаривает старичье. Вам с папашей не мешало бы на нее поглядеть.
Вслед за его дерзостью за столом воцарилось всеобщее молчание, сменившееся всеобщим облегчением, когда я, не изменившись в голосе, поблагодарил его за сообщение. Если она отказывается сопровождать меня, сказал я на следующий день Андромеде, то пусть дожидается моего возвращения на Серифе с Диктисом в качестве дуэньи: я не желаю, чтобы она путешествовала без провожатых. В ответ она заявила, что сама себе хозяйка и будет поступать так, как захочет. Ну хорошо, ответил на это я, напомнив ей, однако, что и у независимости есть свои пределы; что, учитывая особенности наших нравов и прошлое, чем больше она становится сама себе хозяйкой, тем менее хозяйкой мне.
– Аминь, – произнесла, как принято в Иоппе, Андромеда.
– И я отправился в одиночку, – сказал я Каликсе, – и догадываюсь, что завтра увижу на стене всех нас в зале статуй: ухмыляющегося Даная, вперившихся друг в друга нас с Андромедой, трясущего головой Диктиса, Полидекта, шепелявящего свое N 'A.
Я ошибался, сообщила мне моя художница – не только в завтрашней сцене (которая оставила за очередной колонной все мною только что пересказанное), но также и в природе равенства между полами.
– Я знаю, – вздохнул я, неправильно ее поняв. – Андромеда была права.
– Я имела в виду совсем другое! – Каликса вскочила на свои шустрые колени. – Взгляни, например, на меня: уж не скажешь ли ты, что я нахожусь в зависимости и подчинении? Одна или нет, я иду своим путем; вот почему я не выходила замуж. Ну что, доходит?
– Нет.
Она щелкнула мой бездарно провалившийся член.
– Ей-богу, придется нарисовать тебе картинку. Вместо этого она показала мне на следующий день очередную: меня самого уже за совещанием со скрытой под капюшоном женщиной в храме Афины, прямо под знакомым фризом Горгон; снаружи, у самого входа, пощипывал травку крылатый Пегас.
– Замечательно. -Я всматривался в свою выпуклую партнершу. – Такое сходство…
– Поди разберись – с этаким-то клобуком, – сказала Каликса, – но если это Афина, то, значит, Афина и приносила мне годами инструкции касательно всех этих сцен и в конце концов принесла сюда из пустыни и тебя самого. Со мной она всегда была очень любезна, но никогда не объясняла изображенное.
– Буду рад это сделать: поначалу я принял ее за обычную, себе под стать, просительницу…
Но Каликса напомнила о нашем негласном уговоре:
события после соития. Мы отправились в постель пораньше, на сей раз дела у меня пошли получше, я справно в нее внедрился, хотя ни в пространстве, ни во времени не достиг героических масштабов; меня разбранили как нытика; она зажала меня между своими прелестными ножками и промолвила:
– Афродита – женщина, как и я. Делает ли это меня ей равной?
Ошибка Андромеды, на ее взгляд, проистекала из двусмысленности термина равенство: вот она, Каликса, искренне считала себя во многом превосходящей многих мужчин и женщин…
– Я тоже так думаю.
– Теперь уже не подлизывайся, я не шучу. И уж точно не шутили ее темные глаза; я попробовал было сползти вниз, чтобы, расположившись рядом с ней, нагляднее выразить наше равноправие, но у нее была замечательная хватка.
– Я имею в виду, что они смертны, а ты – нимфа, – безвольно промямлил я.
– Дело не в этом.
Суть заключалась в том, настаивала она, что, вне всякого, по ее мнению, сомнения, сказать "мужчины" или "женщины" – все равно что ничего не сказать. Сама она восхищалась любыми проявлениями совершенства, в чем и где бы их ни находила; по природе она была далека от угодничества, знала, что является незаурядно здравомыслящей, остроумной, толковой, понятливой, храброй – ну и еще несколько прилагательных.
– Очаровательной, – предложил я. – Сексуально изощренной…
Она заткнула мне рот:
– Но мне случается сталкиваться с мужчинами и женщинами, явно во всем этом меня превосходящими, и мне не только не может даже пригрезиться, что я им ровня, я сплошь и рядом предпочитаю их и самой себе, и мне равным. Ты напомнил мне однажды, что ты – легендарный герой, но самому-то тебе никак об этом не вспомнить. Ты всегда был психосексуально слаб или это заслуга Андромеды?
По правде, я хотел ретироваться и, будучи ей под стать по крайней мере мускулами, в этом преуспел. Она усмехнулась и поцеловала меня в предплечье.
– Ни один мужчина не легендарный герой для своей жены, – сказал я. Но Каликса пылко заспорила: точно так же и ни одна женщина не останется для своего мужа нимфой из мечты, полагала она, но истинное совершенство в любой частности должно остаться совершенным, даже и будучи приглушенным сравнением, длительной близостью и несовершенством в прочих частностях. Что постоянство отношений становится для страсти фатальным – возможно, неизбежно, а она предпочитает любить страстно и потому замуж никогда не выйдет; но хотя те, кого она любила, не раз и не два обращались с ней из рук вон плохо, она доподлинно знала, что ее преклонение перед их совершенством неуязвимо.
– Аммон чаще всего – настоящий выродок, – сказала она, – но вели он мне завтра умереть – и я бы это сделала. Я хороша, но он велик. За кого же принимает себя Андромеда?
Мне не хотелось больше выслушивать подобную критику.
– Моим вопросом к Афине, – произнес я, – было: "Кто я такой?" Я принес должные жертвы и взмолился, чтобы она явилась и дала совет, как мне не обратиться в камень. Если существовала некая новая Медуза, пусть и новый Персей будет переснабжен серпом, щитом, сандалиями и всем прочим, дабы себя перепрославить, ее переобезглавив. Теперь спасения жаждала не матушка Даная, а ее сын.
Каликса уютно прильнула ко мне со своего рода нежным раздражением. Я продолжал пересказывать, как, когда я пересказал Афине свои опасения и домыслы, рядом со мной у алтаря появилась молодая женщина с прикрытым капюшоном лицом, которую я счел было обычной, себе под стать, просительницей, пока краем глаза не заметил исходящее от нее сияние – каковое, однако, как и все ее черты, в царившем в храме сумраке скрывал от взгляда ее куколь. И когда она обратилась ко мне: "Твой брат прав: Новая Медуза существует", я понял, что этот голос не принадлежит никому из смертных: ко мне, по своему обыкновению прикинувшись просительницей, явилась Афина. Я напомнил ей, что у меня нет смертной родни, только множество божественно единокровных братьев и сестер вроде нее самой, прижитых Зевсом от множества его соложниц.