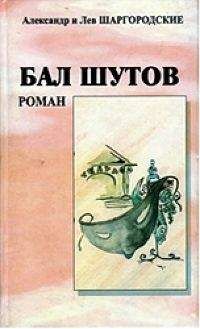Эмоциональность переходила всяческие границы.
Деятели культуры пытались объяснить, что Семен Тимофеевич — сердечник. Но от сердечника так несло, что окосели подоспевший врач с санитаркой и тоже уткнулись рожами в великого мастера Ренессанса. Трое людей иступленно целовали Данаю…
Вечером устроили собрание.
— Семен Тимофеевич, — призывала Маргарита Степановна, — прекращайте пить. Вы соображаете, что вы делаете?.. Вы позорите честь советского человека — вы пропиваете иностранную валюту.
— На свою валюту пью, — угрюмо отвечал он.
— Семен Тимофеевич, — поддержали другие, — у вас не государственный ум. На валюту можно было бы купить станки, пшеницу, трубы большого диаметра.
— А на фига? — спросил он. — На валюту, камарадос, надо покупать вино.
— Оставьте немного, — попросила комсомолка, — купите хоть что‑нибудь жене.
— На фига? — вновь спросил Семен Тимофеевич. — Она блядь…
— Ну и что, — вступил офицер флота, — все они бляди. Но везти им что‑то надо.
— Это кто блядь? — уточнила Маргарита Степановна.
— Кто блядь — тот и знает, — туманно объяснил офицер.
Орест Орестыч тихо поднялся и направился к двери.
— Это я — блядь?! — настаивала Маргарита Степановна.
— Ну чего вы к нему пристали, — произнес Семен Тимофеевич, — вы лучше знаете, кто вы.
Собрание несколько меняло курс.
Приступили к обсуждению, кто с кем живет.
Орест Орестыч отнекивался от Маргариты Степановны, кричал, что он импотент, обещал показать в Лениграде справку, но его прижали к стенке…
Комсомолка сначала дрожала, потом перешла на плач — оказалось, что она жила со всеми.
Чистым оказался только Семен Тимофеевич. Ему было просто некогда — он пил и спал.
Короче, происходило нечто несусветное, ко всему прочему, Маргарита Степановна была, как назло, вся в красном, и вдруг, ни с того, ни с сего, офицер флота бросился на нее.
Партийная дама увернулась, и бык — офицер пробил головой экран телевизора. На этом «мундиал» закончился…
— Прекратите корриду! — приказала Анфиса Фирсовна. Пикадоры разошлись, бык — офицер заклеил пластырем кровоточащее ухо.
Назавра коррида повторилась — правда, на другой арене, в Севилье в присутствии ста тысяч зрителей.
Коррида неожиданно сплотила деятелей культуры и искусства — всех волновал вопрос, что делают с тушей. Едят или не едят? Мнения разделились.
Офицер флота утверждал, что мясо быка жестковато, и его оставляют на съедение собакам.
— Это как сварить, — объяснила Маргарита Степановна, — если на медленном огне, с капустой, перчиком или лавровым листом, — пальчики оближете.
Другие утверждали, что лучше бы сделать щи.
Третьи предпочитали студень…
— Вы только взгляните, какие у него ножки! — визжала комсомолка.
Все были возмущены, что быка убивают столь долго.
— Уперся, как бык, — ворчал офицер флота.
— У них, наверное, до черта мяса, — философствовал Семен Тимофеевич, — они могут себе позволить убивать долго и сложно. Когда мяса нет — убивают электричеством, раз — два, как у нас… Зажрались, камарадос…
— Что вы хотите, — объяснил Орест Орестыч, — Лорка привел страну к разрухе. Вернул в средневековье…
— Ужас, — орала Маргарита Степановна, — сколько на одного навалились… Да еще разоделись — камзолы, золото, амулеты. Когда все можно делать тихо, спокойно, в одном белом фартучке…
Бык продолжал сопротивляться. И вдруг, неожиданно для всех, на поле выскочил офицер флота. И не успел стадион ахнуть, как он выхватил кортик и проткнул быка одним ударом.
Бык рухнул примерно так же, как Семен Тимофеевич перед картиной Веласкеса.
— Вот так надо убивать, — объяснил офицер, вытирая кортик от крови о камзолы тореадоров, — если уж у вас не хватает электричества…
Толпа хотела растерзать члена творческой группы, и если бы не «камарадос» из полиции, от деятеля искусств остался бы только кортик.
Под шумок Маргарите Степановне удалось отрезать от быка лакомый кусочек…
В то время, как творческая группа предавалась изучению Испании — штудировала слово «камарадос», уточняла, кто такой Франко, падала на колени перед Веласкесом и выясняла, кто с кем живет — Соколы занимались одним: думали о своем будущем.
Хотя и сказано: не тревожься о том, что будет завтра, поправь то, что было вчера…
Поздно вечером они возвращались из театра, и Борис разъяснял Ирине, что его ожидает.
— Со мной перестанут здороваться соседи, — пророчил он, — и уйдут друзья.
— Настоящие друзья не уходят, — справедливо заметила Ирина. — Хотя и бывали в России времена, и неоднократно, когда настоящие друзья, не уходили, а убегали…
— Что ты имеешь в виду, — уточнил Борис, — что они приемлют инакомыслящего?
— Совсем нет, — возразила Ирина, — просто они допускают и другое мнение.
— Возможно, — ухмыльнулся он, — но я еще не знаю, какое оно.
— Но только не можешь оторваться от книг.
— Ты же знаешь, я всегда любил книги, — попытался выкрутиться он, — я даже Евтушенко читал. Иногда… А эти мне интересны, потому что новы…
— Если б это было ново и глупо — ты бы не читал ночами…
— Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать?
— Что становится холодно. И надо быстрее идти к дому.
Город мирно спал, несмотря на рождение нового диссидента…
Когда они вошли под арку, то увидели в тусклом свете лампы их соседа, пожилого учителя литературы. Учитель бросился навстречу Борису и долго обнимал его и целовал, хотя они были едва знакомы.
«Наверное, за Отелло, — думал Борис, несколько отстраняясь, — но почему именно сейчас? И за какого — еврея или черного?…»
Учитель, наконец, кончил лобызать и полез за пазуху.
— Я ее уже написал, — оглядываясь, сообщил он.
— Чего? — не понял Борис.
— Пьесу, которую вы предложили поставить, — объяснил учитель, — по «Архипелагу». Только, мне кажется, что главную роль должны играть вы.
Пьеса никак не хотела вылезать из‑за пазухи учителя.
— Спасибо, — поблагодарил Борис, — нам сейчас некогда. Отдадите как‑нибудь потом. Когда снова встретимся под аркой.
И, оставив растерянного педагога — инсценировщика доставать пьесу, Соколы скрылись в парадной…
Ночью начали твориться странные вещи. Не успели они уснуть, как услышали какое‑то шуршание.
— Мышь! — предположил Борис.
— Откуда? У нас их никогда не было, — резонно ответила Ирина.
— Появились, — объяснил он. — Жизнь полна неожиданностей — Борщ, «Голос Америки», мыши…
— Какая между ними связь? — не поняла она.
— Прямая, — растолковал Борис. — И то, и другое, и даже третье не зависит от нас…
Он поднялся, включил свет и увидел подсунутую под дверь записку. В ней было только одно слово: «Спасибо…»
— Пожалуйста, — произнес Борис, пожал плечами и вновь лег.
В два часа ночи зазвонил телефон.
— Здравствуйте, — раздался явно измененный мужской голос, — только не называйте, пожалуйста, моего имени.
— Да я его и не знаю! — проворчал спросонья Борис.
— Тем лучше, — сказала трубка. — Я уже написал инсценировку. Храню ее в подвале. Слева. Под дровами.
— Вы нашли прекрасное место, — заметил Борис.
— Я тоже так считаю, — согласилась трубка. — Позвоните мне завтра, в два часа, только точно, и я вам ее отдам. Пароль: «Лучше страдать от несправедливости, чем вершить ее.» Ничего, что он длинный?
— Сойдет, — буркнул Борис.
— Тогда до встречи! — бросил мужчина и повесил трубку, не оставив номера телефона…
Под утро, когда Борис спускался к почтовому ящику, в парадную вошел мужчина в темных очках.
— Вы, кажется, Сокол? — спросил он.
— Да, он самый.
— Борис? — уточнил тот.
— Борис!
Мужчина замялся, покраснел и стал похож на красный помидор, из тех, что продавали грузины на их рынке по десять рублей за килограмм.
— Похоже, что вы уже написали инсценировку? — догадался Борис.
— Откуда вы знаете?! — вздрогнул мужчина и выбежал из парадной…
Почтовый ящик был переполнен. Столько, наверное, писали только товарищу Сталину ко дню его семидесятилетия.
Он с трудом поднял огромную гору писем и вывалил перед Ириной.
— Что это? — удивилась она.
— Предлагают инсценировки, — предположил Борис.
Ирина раскрыла первый конверт и развернула письмо.
— Дорогой Борис Николаевич, — прочитала она, — ваш смелый поступок нас окрылил. Радостно сознавать, что в стране есть еще такие люди, как вы.
— Приятно, когда тебя хвалят, — произнес Борис. — Надо будет ответить.
— Не получится, — успокоила Ирина, — нет ни подписи, ни адреса.
Она открыла другой конверт.
— Ваши слова подняли наш дух, — прочитала Ирина, — живите двести лет!