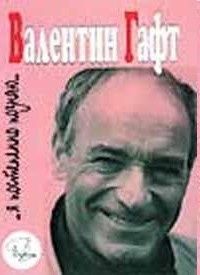Начался чудовищный скандал. И тут вернулся второй секретарь горкома, которому обо всем доложили. Он ворвался в кабинет первого, выхватил револьвер, а секретари тогда были вооружены, чтобы обороняться от любимого народа, и пытался застрелить своего соперника. Но то ли не попал, то ли вышла осечка, убийства не произошло.
И вся эта история дошла до Москвы. Приехала огромная комиссия разбирать этот чудовищный инцидент. Как писал наш великий поэт Некрасов: «Суд приехал, допросы, тошнехонько…»
Вот в это самое время мы и оказались в Тирасполе.
А в нашей съемочной группе был артист Витя Сускин – высокий красавец и очень-очень добрый человек. К тому же застенчивый, как девочка. Он никогда не участвовал ни в каких спорах, дискуссиях, интригах. Сам говорил мало, но любил слушать с замечательной, доброй улыбкой на лице. И вот как-то у него выдались свободные дни, когда он не участвовал в съемках. И Витя пошел гулять по городу.
А в этом городе через каждые десять шагов стояли бочки с сухим вином и палатки, в которых тоже продавали разных сортов сухие вина. Витя шел, улыбался прохожим, останавливался у каждой бочки, у каждой палатки, дегустировал вина и вернулся в гостиницу в умиротворенном состоянии.
А тут тоже появились эти неугасимые американские сигареты «Астер». Витя пришел в номер, закурил эту «Астру», лег на кровать и уснул.
Проснулся он от того, что стал задыхаться – номер был наполнен дымом. Гостиница была новая и, по всей видимости, рамы и двери были сделаны из сырого дерева, они очень плотно закрывались и дым в коридор не проникал. Когда Витя очнулся, то первым делом выпустил через фрамугу весь дым, залив предварительно диван водой. Но оказалось, что в середине дивана образовалась огромная дыра – огонь прожег диван насквозь.
В этот день я тоже был свободен и сидел в своем номере. И вот раздается телефонный звонок.
– Левочка, – спрашивает Витя, – у тебя есть сумка? Чем больше, тем лучше.
– Есть, – говорю, – но она с вещами.
– Освободи ее и зайди с ней в мой номер.
Я освободил сумку и пошел к нему. И тут вижу, идет еще один актер, и тоже с большой пустой сумкой. Я спросил:
– Ты не к Вите Сускину?
– Да. А ты не знаешь, в чем дело?
– Нет, но он просил меня прийти с большой сумкой.
Ладно. Дошли до номера, постучались, и Витя открыл дверь. Мы увидели на полу аккуратно сложенные кусочки дивана, аккуратно сложенные пружинки, а Витя допиливал последние части этого дивана.
– Я уже кое-что отнес, – сказал он, – а теперь мы сложим остатки в ваши сумки, и отнесите их, пожалуйста, на стройку – это через квартал. И выбросьте там все это через забор.
Мы сложили все, что могло поместиться в сумки, дошли до этой стройки, перекинули мусор через забор, вернулись и увидели, что Витя уже подмел, опилки собрал в кулечек, свернул остатки пружинок, положил в наши сумки и тщательно протер пол мокрой тряпкой.
– Ну вот и все, – удовлетворенно сказал он. – Дело сделано…
И в самом деле, никакого шума и скандала по этому поводу не было – на отсутствие дивана просто не обратили внимания.
Через какое-то время я встретил Витю на улице Горького. Мы обнялись, разговорились.
– А знаешь, Левочка, – сказал он, – я ведь из профессии ушел – я теперь не актер.
И я подумал, что это каким-то непостижимым образом связано с той историей, и сказал ему об этом. Как ни странно, я оказался прав.
– Вот ты помнишь, – сказал он, – как вы помогли мне тогда в Тирасполе. Так вот в тот день, когда мы уезжали из города, ко мне зашла администраторша. «Товарищ Сускин, – сказала она, – а вот тут…» – и показала пальцем на то место, где раньше стоял диван. Я не выдержал, перебил ее и крикнул: «А что я его – съел?!» Она растерялась, пожала плечами и ушла. Вот и оказалось, Левочка, что артист-то я никудышный. Я даже не умею слушать. Я ведь даже недослушал ее, а уже закричал. Вот тогда я и понял: ни на сцене, ни на экране мне не место… Сейчас я работаю по другой профессии, а по какой – не скажу. Может быть, ты обо мне еще услышишь.
И, расставаясь со мной, он так же, как и раньше, добро и широко улыбался. А я понимал, конечно, что шрам-то в душе его остался, потому что кино такое же заразное дело, как и цирк. Но об этом я уже много раз и писал и говорил. Очень трудно покидать и то и другое. Очень…
* * *
Если пилот не может не летать, то актер не может не играть. Если его не будет окружать атмосфера игры, он просто задохнется в творческом вакууме. И он, порой даже бессознательно, ищет и находит для себя игровую ситуацию.
Как-то уже очень давно пришел я на общественный просмотр новой программы московского цирка. Отработали свой номер туркменские наездники, и клоун по старому обычаю стал приглашать из зала публику, заводя ее словами: «Ну, кто хочет стать артистом?!» Публика, естественно, молчит: какой дурак при всех срамиться пойдет?! И тут из зала буквально вытаскивают какого-то странного человека в застиранной ковбойке, в сапогах – просто жуть. Человек этот выходит и начинает осматриваться по сторонам. На его лице был написан такой непередаваемый ужас, что все вокруг захохотали. Потом ему подвели лошадь, перебросили через седло, он, естественно, не удержался, упал прямо на опилки и… начал складывать их в руку и жевать. С залом случилась настоящая истерика. В директорской ложе сидел Михаил Жаров. Он оказался необычайно смешливым человеком. Вскакивал, показывал пальцем на манеж и заливался на весь цирк своим хохотом. А потом вдруг на секунду воцарилась тишина, и тут все услышали трагический шепот Жарова: «Ой, я описался!» Выходя из цирка, все держались за животы, так что милиционеры подозрительно оглядывались: уж не отравились ли эти люди чем-то? А мы и не подозревали, что стали свидетелями едва ли не первого выхода на манеж Юрия Никулина.
Я очень дружил с Никулиным, к тому же Юрий Владимирович жил рядом с Театром на Малой Бронной. Как-то на старенькой машине Никулина мы приехали в один из московских таксопарков, где нам предстояла съемка эпизода художественного фильма. К вечеру, закончив работу, мы попрощались с гостеприимными таксистами, сели в машину и тронулись в обратный путь. Вскоре Никулин говорит мне: «Слушай, у меня такое ощущение, что это не моя машина. Всё другое – и звук, и даже запах…» Мы оба вышли из машины и, открыв капот, стали ее осматривать. «Они всё заменили на новое, – прошептал Никулин. – Всё, что только можно. Даже колеса».
Вот что такое всенародная любовь! У Никулина, кстати, была «Волга» модели хэтч-бэк, то есть фургон, с пятой задней дверью. Как-то в его машину набилось человек десять, а может и все двенадцать. Никулин включил двигатель, но машина не сдвинулась с места, забуксовала. И тут, откуда ни возьмись, появился автоинспектор, который строго произнес: «Эй, во дитель, если только тронешься, отдашь права!» Никулин полез обеими руками в карманы пиджака, из которых веерами извлек две колоды водительских документов: «На, тебе какие?» «Ох, извините, Юрий Владимирович, – сразу узнав актера, засмеялся инспектор. – Сейчас поедете». Он вызвал по рации подкрепление. Уперлись. Толкнули. Поехали.
Это произошло накануне очередных майских праздников. Мне позвонили из Президиума Верховного Совета и сказали, что меня наградили орденом Трудового Красного Знамени. А когда мне что-то преподносят, я тонко, как большой интеллигент, шучу. И я говорю:
– Наконец-то вы созрели в Верховном Совете! А я-то уже давно был готов к этому! Во всех пиджаках дырок наковырял! А вы все там никак не мычите, не телитесь.
Так тонко, интеллигентно шучу.
На другом конце провода похихикали над моей шуткой и говорят:
– В среду к десяти утра просим прибыть. И, будьте добры, без опозданий.
Я, конечно, как дурак, с утра шею вымыл, галстук нацепил и к десяти утра подъезжаю к этому мраморному зданию. Там часовые.
– Здрасьте, Дуров, вы чего?
Стало быть, узнали.
– Здрасьте, – говорю. – Мне тут позвонили… – и объясняю, что к чему.
А они говорят:
– Сегодня не наградной день.
– Как не наградной? Мне сказали, к десяти утра!
Тут они тоже занервничали, как и я.
– Сейчас, – говорят, – мы позвоним куда надо и все выясним.
Они ушли куда-то, приходят и говорят:
– Мы позвонили в секретариат. Вы знаете, ни в одном наградном листе вашей фамилии нет.
Я спускаюсь по ступенькам, выхожу на улицу, гляжу – машина. А облокотясь на нее, стоит довольный Юра Никулин и говорит:
– Приехал все-таки, дурачок!
И я, невзирая на флаг на здании, на мрамор, сказал все, что о нем думаю.
– Кто звонил? – спрашиваю.
– Я, – говорит. – Кто же еще?
– Не стыдно?
– А тебе? – спрашивает. – Поверил, как маленький. Ну, здравствуй, мальчик.
И мы обнялись.
Ладно, думаю, больше я на такой крючок не попадусь. Проходит несколько дней, раздается звонок.